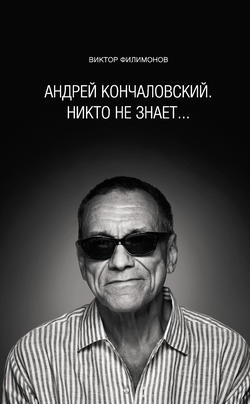Читать книгу «Андрей Кончаловский. Никто не знает...» - В. П. Филимонов - Страница 11
Часть первая Древо предков
Глава третья «Большая Наташа» большого дома
1
ОглавлениеВ кинематографе Кончаловского женщина всегда рядом с героем, но чаще – как персонаж страдательный, редко и трудно достигающий материнского воплощения.
В этом смысле явно отличен «Романс о влюбленных». Здесь мать – одна из сюжетных опор. Но она предстает в нескольких, как бы спорящих друг с другом ипостасях. Завершает спор и «побеждает» в нем материнская философия житейского стоицизма, согласно которой нужно принимать жизнь такой, какова она есть. Здесь сила духа как раз и состоит в способности терпеливо нести крест повседневного существования.
Может быть, эта выношенная опытом жизни мудрость позаимствована режиссером у своей матери? Во всяком случае, такой Наталья Петровна Кончаловская видится в свои зрелые годы в воспоминаниях тех, кто находился рядом с ней – близких, родных, знакомых. В том, что говорят о ней сыновья, слышится почтительно-нежное, уважительное как к главной опоре семьи в те времена, когда Наталья Петровна была жива. Наталья Петровна Кончаловская, по словам ее старшего сына, получила в наследство «очень непростое сплетение генов: со стороны деда темперамент, неуемная энергия и даже нетерпимость яицких казаков; со стороны бабки-француженки – свободное знание французского, способность понимать французскую культуру, ощущать родство с ней. Ее дед с отцовской стороны был потомок литовских дворян, один из образованнейших в Москве книгоиздателей, человек высокой культуры…»
Писатель, переводчик, она с детства питала любовь и к серьезной музыке. Во второй половине 1930-х обратилась к детской литературе, начав с переводов английской поэзии. Издала сборник мемуарных очерков и рассказов «Кладовая памяти» (1973).
Наталья Петровна с самой колыбели восприняла воздействие духовной энергетики крупнейших отечественных дарований XX века. Символично, что при бракосочетании ее родителей присутствовал Михаил Врубель. А ее крестным был Сергей Коненков. Юная Наталья почти ежедневно бывает в мастерской крестного на Пресне, становится свидетелем его творчества и жизненных драм.
«Я была очень привязана к Сергею Тимофеевичу все эти годы, – пишет Наталья Кончаловская в своих мемуарных очерках. – Он жил тогда один. С женой своей давно развелся, и она жила где-то отдельно с сыном Кириллом. И потому я была единственным молодым существом в мастерской, в этом царстве мужиков – дворника дяди Григория, формовщика Сироткина, каменщиков с Ваганькова – и кота Вильгельма. Сергей Тимофеевич любил меня, как свою дочь, скучал, если я долго не приходила. И я привыкала к этой удивительной жизни среди скульптур».
Еще в 1918 году Коненков выточил из дерева первый портрет красавицы Маргариты Воронцовой, с которым в его жизнь вошла и новая любовь. Летом 1922 года он женился и отбыл в свадебное путешествие в Америку, где и обосновался. Лет через пять там же оказалась его крестница со своим первым мужем. По ее наблюдениям, Сергей Тимофеевич Америки не принял, но возвращаться в Страну Советов не собирался. На него посыпались заказы, он прилично зарабатывал, получил возможность путешествовать и прожил в Нью-Йорке более двадцати лет.
Через много лет после возвращения из Америки, когда у Натальи Петровны была уже другая семья, ей официально предложили начать переговоры со скульптором относительно его прибытия на Родину. Надо было написать Сергею Тимофеевичу частное письмо с приглашением. И хотя за все эти годы Наталья Петровна и ее семья никак не были связаны с Коненковым, письмо она все же написала.
Уже в декабре 1945 года Михалковы-Кончаловские встречали Коненкова на Ярославском вокзале.
«…Он действительно собрал все свои скульптуры и прибыл на Родину, – рассказывает Андрей. – В Одесском порту бдительные таможенники перебили все его гипсы – искали золото и бриллианты. Деревянную скульптуру, слава богу, не тронули. Несмотря на эти и прочие неприятности, Коненков был невообразимо счастлив. Здесь он чувствовал себя целиком в своей тарелке, крепко налегал на портвейн, стал убежденным соцреалистом…»
Вспоминая предшествующее этим событиям время эвакуации 1941 года, Андрей видит свою тридцативосьмилетнюю мать очень молодой и очень привлекательной. «Думаю, она была эмоционально увлекающимся человеком, вызывающим у мужчин очень чувственные надежды».
Ей было чуть больше двадцати, когда впервые после революции семья оказалась за границей. В знойно-чувственной Италии. Наташа выделялась среди итальянок крупностью юного тела и типично славянским лицом с кокетливо вздернутым носом. Избыток здоровой энергии избавлял от слишком глубоких размышлений о будущем. Она в эту пору ни к чему не готовилась и не подавала, по ее словам, никаких надежд. Но с младенчества обладала отличным слухом, с большой легкостью пела стихи, отчетливо запоминала все, как казалось с годами, ненужное. Как и все в юности, «была нерадива и беспечна». Однако ж в домашнем хозяйстве расторопна, к чему мать приучила ее с детства. Воспитанная Ольгой Васильевной в суровых правилах, юная барышня глубоко вросла в жизнь семьи, и это воспринималось ею абсолютно подсознательно.
Окончив уже советскую школу, она не вошла ни в один коллектив молодежи. Одноклассники ее рассыпались по высшим учебным заведениям. Ее восемнадцатилетний брат учился во ВХУТЕМАСе, а она вроде как отбилась от сверстников, не имея влечения ни к точным, ни к гуманитарным наукам и не подавая серьезных надежд ни в какой области искусства. Однако богатая фантазия не давала девушке унывать. Вдали же виделся желанный избранник, и она сама в окружении восхитительных детей…
Такой в расцвете двадцатилетней жизни Наталья оказалась в Италии.
Однажды девушка отправилась покупать фрукты… Возвращаясь с рынка с дарами юга, она обычно проходила мимо столярной мастерской по изготовлению мебели. На этот раз девушка увидела здесь… велосипед. А рядом, скрестив загорелые ноги в парусиновых штанах, стоял молодой итальянец. На роль избранника этот грубоватый простой парень претендовать, в представлении Натальи, вряд ли мог. Но нежная улыбка на его загорелом здоровом лице, неподдельное наивное внимание к ней не позволили с ходу отвергнуть его откровенные ухаживания.
Пришло время, и Антонио признался русской девушке в любви. А в ответ на предложение руки и сердца с упоминанием будущего «своего дела» услышал… смех. Это был слегка ироничный, снисходительный смех духовно возвышенной барышни над неуклюжим «буржуа» со всеми его ограниченными меркантильными устремлениями.
…Когда семья покидала Сорренто, сиявший первым сентябрьским днем, сердце девушки все-таки тревожно сжалось: пролетка миновала место ее встреч с неуклюже предприимчивым молодым итальянцем Антонио. И она на мгновение «показалась самой себе чем-то вроде большой рыжей лисы, утащившей петуха из курятника и, блудливо озираясь, ускользавшей эдакой фокстротной повадкой подальше в лес».
В 1925 году Петр Петрович изобразил дочь на портрете, названном «Замуж не берут!». На нем мы видим привлекательную двадцатидвухлетнюю особу, кутающуюся в шубку в зябком девичьем одиночестве, с печальной задумчивостью на лице и со слезой во взоре. В портрете между тем живет улыбка отца-художника, убежденного в том, что отбою от женихов у дочери нет и не может не быть. Собственно, так и случилось – в 1927 году она нашла себе мужа.
Первым мужем Натальи Петровны был сын богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции торговлю чаем. В роду его были и крепостные. А сам он получил хорошее образование в Англии. Когда-то он был пианистом, но бросил музыку и перешел на коммерцию. Работал некоторое время в торгпредстве в Англии, затем в Москве. И именно он, Алексей Алексеевич Богданов, развлекал уже в Америке ностальгически опечаленного Сергея Тимофеевича Коненкова импровизациями на темы Баха, любимого композитора скульптора.
Старший сын Натальи Петровны так передает романтическую историю ее первого брака: «В 1927 году мама убежала в Америку без разрешения родителей. С чужим мужем. В те времена можно было развестись по почте. Пока доехали до Владивостока, он уже получил по телеграмме развод. На пароходе, который шел из Иокогамы в Сан-Франциско, поженились: в Америку она уже въехала женой красивого господина… Он был представителем «Амторга», свободно владел английским, курил сигары и носил гамаши…»
По свидетельству внучки Натальи Петровны Ольги Семеновой, ее бабушка, мечтавшая о многодетной семье, пережила глубочайшую драму в супружеской жизни. «Шесть раз обрывались беременности. Когда, перед возвращением в Россию, родился мертвый ребенок, поняла, что остается надеяться на чудо…»Дочь Екатерину Наталья «вымолила», вернувшись в Россию в очередной раз беременной. И 7 ноября 1931 года у нее родилась пятикилограммовая девочка, прозванная акушерками царь-бабой… Он и стала по прошествии времени матерью Ольги Семеновой.
Через пару лет после возвращения в Россию супруги, по инициативе Натальи Петровны, расстались. Спустя время по обвинению в шпионаже был расстрелян старший сводный брат Алексея Богданова. Младший пытался протестовать. Его посадили. И в лагере купец-англоман вскрыл себе вены.