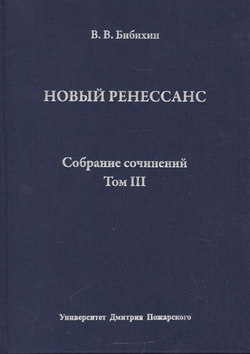Читать книгу Собрание сочинений. Том III. Новый ренессанс - В. В. Бибихин - Страница 7
Утрата середины
Автономия человека
ОглавлениеУтрата середины – вот образ, под которым Зедльмайр объединяет и упадочные явления искусства и те бытийные сдвиги, симптомом которых выступают современная архитектура и живопись. О других явлениях культуры автор сознательно умалчивает. Утрата середины происходит во многих смыслах. Искусства лишаются своего объединяющего средоточия, каким некогда была архитектура. Художество перестает быть необходимым средним звеном между духовной и чувственной сферами, становится эксцентрическим. Вместе с ним современный человек лишается опоры в человеческой природе как такой, которая всегда была общей мерой, местом схождения всех вещей, связью между верхом и низом.
Теперь становится почти безразлично, в какую сторону ведут отпадения от середины, потому что за невозможностью возвратиться к ней порывы ввысь, прочь от «человеческого, слишком человеческого» к сверхчеловеческому кончаются наоборот недочеловечеством и озверением; порывы к будущему прочь от современности кончаются первобытным примитивизмом; попытки вырваться за пределы обыденного рассудка, погрузиться в бездны бессознательного кончаются господством разоблачительных схем мысли с их плоским рационализмом.
Близкую ему критику дегуманизации современного искусства и диагноз распадения человеческого образа как такового Зедльмайр находит у русских философов культуры В. И. Иванова и Н. А. Бердяева, а на Западе у Ясперса, Эрнста Юнгера, Ортеги-и-Гассета[28]. К XX веку оказывается в конец разбазарен капитал гуманистической традиции. Современный человек ставит художника в тупик тем, что так мало может вдохновить его; а художник в свою очередь не находит в себе сил, чтобы преодолеть преображающей любовью неприязнь к несимпатичному предмету. Не случайно современному искусству так легко дается образ демонического и одержимого человека, так трудно – правда великого и человечного, и совсем фатально, в принципе не удается святой и Богочеловек. Гораздо уютнее дух современности чувствует себя среди внечеловеческой, бездуховной и особенно неорганической стихии. На счет внечеловеческого пафоса последнего века Зедльмайр относит с одной стороны успехи атомной и космической физики, с другой – возникновение «рабочего», машинизированного человеческого типа с доминирующими чертами жесткости, мобильности и подчеркнутой пунктуальности, расцвет тоталитарных распорядков жизни, настроения тотальной мобилизации (выражение Эрнста Юнгера) всех наличных сил и средств, притупление чувствительности и сострадательности человеческого существа, неумение обращаться с органической и живой природой, для которой мир машины в лучшем случае отводит место в музее или заповеднике.
Проблематичной оказывается не нравственность, а онтология, первые основания бытия или вернее их отсутствие. «Этот перенос центра тяжести человеческого духа за пределы органики есть несомненно сдвиг космического порядка, нарушение как в микрокосме человека, который теперь односторонне развивает те свои духовные способности, которые под стать чертам неорганического мира… так и в макрокосмическом балансе вследствие одностороннего сохранения и пролиферации неорганического начала, которое воздействует на все области жизни почти всегда за счет органического, что ведет к опустошению жизни… Это нарушение… лишь привходящим образом отдается нарушениями в социальной, экономической и культурной областях»[29].
Никак нельзя утверждать, что научно-техническое конструирование в экономической и социальной сферах лишено творческих моментов, но это творчество отсекает органически-жизненную сферу и всё неохотнее соглашается видеть в человеке нечто большее чем вещь среди вещей. Австрийскому культурологу удается подробная аналогия симптоматических аберраций современного искусства с душевными болезнями. Экспрессионизм сближается с депрессивными, футуризм с маниакально-психотическими состояниями, кубизм и конструктивизм с утратой чувства реальности, сюрреализм с шизофренией. Конечно, предупреждает Зедльмайр, художники – не душевнобольные, иначе они были бы неспособны к творчеству; скорее эпохи, подобно людям, тоже могут терять душевное равновесие, и тогда они окрашивают в свой тон прежде всего то художественное выражение, которое чутко к ним.
Автономия искусств есть лишь симптом и символ автономии человека. Впервые в XVIII веке человек отважился открыто не признать над собой высшей личной воли. Дело не просто в том что он отверг Бога; ясно выраженные, а больше бессознательные культы сохранились, будь то щемящее чувство благоговения перед Вселенной, перед «природой», перед Человечеством или самозабвенное служение машине. Не стало Бога как высокого, но интимного друга, с которым человек был бы связан любовью и советом. Прекратив непрестанный внутренний диалог со своим божественным «вторым Я», человек перестал понимать и себя; а когда он упустил себя, не могло не нарушиться его отношение к людям. Способность любить природу и красоту, может быть, не ослабла, но сентиментальность здесь стала опасно соседствовать с холодностью и даже жестокостью. А из-за того что прервались те единственные личные отношения, которые могли без остатка наполнить смыслом существо, по-своему вмещающее весь мир, в сознание прокралась неудовлетворенность и, никогда не довольствуясь мимолетной преходящей данностью, человек стал ценить прошлые и будущие времена, нездешние места, другие социальные условия больше чем свои. Пантеизм и деизм XVIII века обещали уму очень высокого и чистого бога, сторонившегося земных подобий: антропоморфность из него изгонялась примерно так же как из архитектуры. Но тогда и в человеке не оставалось ничего похожего на Бога. Выпутываясь из религиозных оков, уходя от разумной веры в боговоплощение, в Троицу, в девственное рождество, человек и сам освобождался от божественного достоинства. У него не было больше причин и оснований считаться подобием и образом Творца.
Потом, запредельный бог деизма и пантеизма так приподнят, что со временем всё равно выходит из употребления за ненадобностью. Деизм и пантеизм – шаг к отставке Бога, и возможно, темный расчет на это руководил рвавшимися к свободе просвещенческими мыслителями. Так или иначе европейское человечество начинает со второй половины XVIII века колоссальный исторический эксперимент. Оно посвящает свои силы и устремления только себе, заполняя собой все области бытия, которые раньше с отрешенностью оставлялись божеству. Осязаемым результатом было и планетарное распространение европейского духа, и прорыв в космос. Исход эксперимента уже теперь, похоже, определился. «Поезд должен был отправиться во Вселенную, но он идет в Ничто»[30].
Чтобы осмыслить исключительность современной эпохи, Зедльмайр сравнивает ее с тем, что было из наиболее близкого ей в прошлом. У новейшего искусства были предтечи. В конце романской эпохи (романики), около 1125 г., была краткая, уместившаяся в одно поколение, фаза странной демонизации священных образов. Портал «Страшный суд» Отенского собора, романская часть церкви св. Магдалины в Везле, романский портал в Муассаке, барельефы в Суйяке, скульптуры храма в Болье-сюр-Дордонь даже в сравнении с остальным доготическим средневековым искусством, не отличавшимся особой правдой изображения человека, останавливают исследователя потусторонностью и мертвенностью образов святых. Христос иногда походит на азиатского божка или деспота. Апокалиптические звери и ангелы демонически страшны. Далеко не всё здесь можно объяснить средневековой эстетикой, которая допускала крайние искажения зримого, лишь бы хоть так навести зрителя на мысль о незримом. Похоже, дело было в другом, когда рядом со священными изображениями теснились демоны, адские звери и химеры, проникая даже внутрь храма. Формы становятся нестойкими, расплываются, фигуры на вращающемся колесе фортуны впервые в истории искусства, по наблюдению Зедльмайра, размещаются вниз головой, символизируя переменчивость вещей. Главной темой изображения становятся Страшный суд и его ужасы. Темная, как склеп, внутренность церкви усиливает чувство жути. Экспрессионисты открыли для себя позднероманское искусство, но Зедльмайр предлагает говорить, что своим пристрастием к этому периоду они открыли свою внутреннюю сущность.
Позднероманская сумеречность была преодолена готикой (которая называлась тогда «французской манерой»), возникшей в конце той же первой половины XII века. Образы демонических существ были изгнаны из внутренних помещений храма; человеческие изображения стали возвышенно-реалистическими; вместо церквей-склепов с массивными стенами и гнетущими сводами поднялись нефы многометровой высоты, на которой ажурные нервюры казались моделью платоновского неба; витражи превращали огромное внутреннее пространство в волшебную обитель света; грозное колесо фортуны над входом было переосмыслено в лучащийся символ Солнца правды. Интеллектуалистская философия (Шартрская школа) и мистическая теология (Бернар из Клерво) так называемого французского ренессанса XII века, хотя и враждовали между собой, были одинаково далеки от настроений страха и обреченной подвластности судьбе[31].
Однако в самом конце готики еще более неистовый демонизм дал о себе знать у Иеронима Босха, писавшего между 1480 и 1516. Ровесник Леонардо да Винчи, Босх создает в противовес новому космическому искусству высокого Ренессанса адский мир, имеющий свою логику хаоса и населенный не просто уродливыми людьми и падшими ангелами, но большей частью неслыханными изощренно въедливыми чудовищами и зловещими аппаратами в окружении одичалых пространств и развалин, освещенных не солнцем и луной, а пожарами и странными заревами. Композиция босховских картин тоже дезорганизована, изображаемое нескладно, шатко, пустотело, призрачно. Как у Ван Эйка небо вдвинулось в земное бытие и освятило его собою, так у Босха ад, словно прорвав невидимые запруды, пропитал всё земное своей гнилостью. Божественному у Босха едва достает сил устоять перед напором ада, который достигает даже до Эдема, извращая его в рай сластолюбия. Конечно, разгул нечистых сил у Босха остается всё же лишь искушением внутри христианского мировосприятия. Но Зедльмайр видит историческую закономерность в том, что Босх был извлечен из забвения в 1920-е годы и признан одним из родоначальников сюрреализма.
Отдельные черты современного искусства рано мелькнули и в так называемом маньеризме, антиклассическом стиле 1520–1590 годов. Зедльмайр предлагает осмысливать маньеризм и отслаивать его от параллельно существовавшего позднего Ренессанса исходя из маньеристского мирочувствия: это сомнение и отчаяние, внутренний раскол и страх, завороженность смертью. Классическая форма здесь каменеет, застывает, мертвеет; верх берет вычурная надуманность. Маньеризм тянется к холодным и неприступным материалам вроде хрусталя, предпочитает панцирь человеческому телу, маску – лицу; он возвышен, загадочен, чересчур духовен и смертельно серьезен. Маньеризм тоже был заново открыт в 1920-х, и причина здесь возможно в том, что он страдал той же болезнью, что и модернизм.
Еще одно явление, современное маньеризму, но, как считает Зедльмайр, независимое от него, перекликается с искусством XX века: это принижение человеческого образа в живописи Питера Брейгеля Старшего. Брейгель смотрит на человека со стороны как на причудливую странность, залетного инопланетянина, и человек предстает в беспощадном свете: мелким, испорченным, зловредным, придурковатым, неуклюжим. Человеческий мир опять хаотичен и бессмыслен, обуян бесовщиной, одержим смертью. Замечательно внимание Брейгеля к детям, безумцам, уродам, эпилептикам, слепым, к состоянию опьянения, к поведению массы, к обезьянам, т. е. к тем аномалиям и отклонениям сознания, которые особенно интересуют современную психологию. Зато природа на картинах Брейгеля рядом со скверной человека величественна и чиста. Этим, и еще явственным у него чувством стыда за человека и сочувствием к нему, Брейгель отличается от модернизма.
Наконец, почти во всём английском искусстве, обособляя его от искусства континентальной Европы, Зедльмайр наблюдает бесстильность архитектуры, неумение органически связать ее с другими искусствами (что выражается в неразвитости потолочных фресок), отсутствие скульптуры и отсутствие такого портрета, который идеализировал бы и возвышал человека, при том что Англия обладает большой и богатой литературой, т. е. он замечает здесь весь комплекс черт, ставших характерными и для остальной Европы начала и середины XIX века.
Даже краткий анамнез такого рода позволяет говорить, что болезнь искусства XIX–XX веков назревала на протяжении столетий, временами обостряясь, особенно после размежевания церковной и светской власти и после Реформации. «Существенно при этом заметить, что предтечи современного искусства появляются внутри тех направлений, которые стоят в духовной противоположности к Ренессансу. Часто высказываемое и несколько легкомысленное предположение, что беды XIX и XX веков начались с Ренессанса, решительно опровергается внимательным наблюдением»[32]. Зародившееся в XVIII веке революционное искусство тоже противопоставляло себя стилю барокко, который Зедльмайр считает прямым продолжением ренессансного стиля.
Все три сменявших друг друга стиля французского XVIII века, а именно стиль регентства (1700–1725), рококо (1725–1750) и Людовика XVI (с 1750; вначале он назывался «стилем Помпадур») отказались от очень важной для Ренессанса и барокко идеи «великого человека». Художественная деятельность переносит свое средоточие из храма и официальной королевской резиденции в относительно небольшие и интимные залы городского дворца и обращается к миниатюрным, игровым предметам и амурно-идиллическим темам. Вместо Геркулеса и Аполлона – Венера и Амур, вместо палицы первого – выструганный из нее лук последнего как символ всей эпохи; вместо величия – миловидность (в портрете). Главными достоинствами становятся приятность для глаза, рафинированность, роскошь, чарующая фривольность, под которыми кроются меланхолия или холодный скепсис. Начинающийся раскол человека на рассудок, рацио, с одной стороны, и иррациональные влечения – с другой, дает о себе знать, возвещая будущую поляризацию искусств, в таких чертах этого периода как сочетание крайне рациональной архитектуры с крайне иррациональным орнаментом. Всё вместе позволяет Зедльмайру говорить о скрытых симптомах будущего разлада начиная уже с 1700 г. во Франции. Аналогичную роль прямого бациллоносителя играет у автора и Англия, которая примерно к тому же времени (к началу XVIII века) сделалась для Европы рассадником сентиментальной культуры чувств, оголенной плоскостной архитектуры с бесстильными аппликациями, приниженного изображения человека (карикатуры Хогарта, сатиры Свифта), импрессионизма (Констебль, Тернер), спиритуализма и духовидения (Джон Флаксман, Генри Фюссли, У. Блейк), новых форм практического жизненного стиля вплоть до одежды и, наконец, философий пантеизма и деизма. «Как Франция для готики и Италия для Ренессанса – барокко, так Англия явилась классической страной для всего начала XIX века»[33]. Но радикальные выводы из английских предпосылок сделала опять же Франция, чья революционная геометризованная архитектура была первым шагом всего последующего художественного процесса.
Исходя из симптомов в области искусства Зедльмайр намечает фазы болезни современного человечества. Первая, острая фаза (1760–1830): застывание и безжизненность форм, классицизм; геометризм и холодная рассудочность; высокие эстетические и этические идеалы рядом с неверием в человека; тягостный конфликт между могучим сверх-Я и разгулом иррациональных порывов. Символ периода – луна. Вторая, компенсированная фаза (1830–1840): переключение внимания с прошедшего на настоящее, с великого и мощного на малое и близкое; приспособление к реальности; расцвет европейского юмора, который где-то тайно соприкасается с демонизмом (Оноре Домье, Карл Блехен), однако в своих утрированных, карикатурных формах еще успевает «отреагировать» его. Третья, скрытая фаза (1840–1855): кажущееся возвращение к здоровью; оживление чувственности; снова краски, движение, пестрота; позитивное отношение к текущему моменту вместо присущего революционным годам раскола между чувством потерянности и футуристической утопией; вера в прогресс, т. е. в постепенное улучшение и оздоровление; лихорадочное дионисийство, за которым, правда, чудятся тревога и тоска, потому что вся эта подвижность – лишь фасад тяжелого расстройства, вытесненного в бессознательное. Четвертая фаза, новое обострение болезни (с 1885, но еще явственней с 1900 до конца 1940-х): мир, люди, природа отчуждаются; воцаряются отчаяние и страх; художественные формы снова леденеют и разлагаются: пациент как бы уже не способен связно мыслить, он чувствует себя во власти демонических сил; временная потеря речи (дадаизм); явное моторное возбуждение, спешка, гонка, желание постоянно менять свое состояние; шатания между усильной надеждой на будущее и крайней безнадежностью. Первая фаза всего больше коснулась Англии, Севера Германии, Америки, России; вторая наиболее явственно проявилась на Юге Германии и в Австрии; третья – в Германии и Франции; в четвертой фазе Англия уже не участвует (она начала революцию, но не приняла наиболее крайних выводов из нее); ведущими странами оказываются Франция, Америка, Германия, Россия. Замечательна роль Испании, которая дает вождей трем революционным движениям в живописи (Гойя, Пикассо, Дали).
Зедльмайр заключает свой анализ: «Сколь бы подозрительным ни казалось объявление своего собственного времени поворотным пунктом мировой истории, мы всё же не можем избавиться от впечатления, что после 1920 сложилась не имеющая аналогий экстремальная ситуация, за пределами которой едва ли можно ожидать чего-либо кроме тотальной катастрофы – или начала возрождения. Положение похоже не на один из тех многочисленных кризисов, мучительное сознание которых само относится к типическим признакам переживаемого времени, а на кризис человека как такового»[34].
28
Зедльмайра не обманул шутовской оптимизм восторженных приветствий «новому искусству» у Ортеги.
29
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 163.
30
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 174.
31
Е. Piscione. Bernardo di Chiaravalle е Tommaso d’Aquino di fronte al problema dell’amore: Due posozioni antitetiche о complementari? – «Sapienza», vol. XXXVI, n. 4, Napoli, 1983, р. 405–414.
32
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 193.
33
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 197.
34
Н. Sedlmayr. Verlust der Mitte…, S. 204.