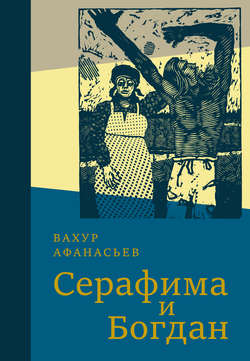Читать книгу Серафима и Богдан - Вахур Афанасьев - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
РАЙМОНД 1946
ОглавлениеТогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали (их) себе в жены, какую кто избрал.
Книга Бытия 6:2
Год выдался неспокойным, боялись чекистов и лесных братьев, голода и болезней, перемен в укладе жизни и новой войны. Осенью листва на деревьях пожелтела рано, и хотя в этом не было ничего удивительного, но на деревне зашептались о дурном предзнаменовании. Тем не менее зима принесла нужды меньше, чем ожидалось. Бригады промышляли на озере, и поначалу новая власть не имела представления, что делать с их уловами. Иногда наезжали военные с густо проштампованными ордерами, загружали рыбой несколько саней, закрывали сверху брезентом и соломой и уезжали то в сторону Тарту, то еще куда-то.
В Чудской волости приказом свыше создано три сельсовета. Новых начальников прислать не удосужились, и назначенный председателем сельсовета Кольки Эдисон Васильевич рулит в качестве временно исполняющего обязанности еще и сельсоветом Казепели и Вороньей. Деревня София, как зовется территория между Кольки и Казепелью, официально административной единицей не признана, а причислена к Кольки. Также не сделано разницы между достигающей Лахепераского затона Большой Кольки и Малой Кольки, что лежат к югу от гавани. Но административная реформа с ее стремительными переменами не слишком путает народ. Достаточно знать, кто начальник, которого называют просто председателем, или еще привычнее – волостным старшиной.
Эдисон Васильевич, человек деятельный, приказал очистить большой подвал в порту, напилить льда и складывать рыбу в ледник. Очевидно, сверху поступило распоряжение, потому как председатель попытался наладить зимнюю коптильню, но ничего путного из этого не вышло – в дыму от мертвого дерева рыба не коптилась. Тишком возили уловы в Тарту на базар, то сами, то через посредников. Взамен от города имели не так и много, но все-таки – если не сахар, то немного сахарина, если не толстые копченые колбасы и бутылочное пиво, то серую пшеничную муку и оставшиеся от немцев консервы, если не цветную ткань, то малоношеную городскую одежду. И прежде чем хоть кто-нибудь успел задуматься о том, будет ли отныне жизнь таковой или это временная передышка, в освещенных солнцем местах образовались лужи и высунули свои головки подснежники. Лед вскрылся рано и пропал, обойдясь без торосов.
Феофан, которого одолевают все эти мысли, глубоко вздыхает. По губам пробегает улыбка, но в глубине души покоя нет.
Раньше других он приходит к лодкам, раньше других готовит сети. Не признак ли это старости – его бессонница? Молодым он не чувствует себя уже давно, но, если начать высчитывать, – ведь пятьдесят совсем недавно стукнуло. Небось, это все бригадирская должность, что спать не дает, хоть плачь. Раннее утро, пора забрасывать сети. Второй раз лодки выйдут в озеро после обеда, чтобы вернуться с уловом, если Бог даст.
Составы бригад до конца не сформированы, да и лодки в отвратительном состоянии, и орудия лова давно не обновлялись. Этим утром в звено взяты молодые рыбаки: Харитон, Меркул, Еремей, Варлаам – им не впервой сети ставить. Еще в большой лодке одноногий Трифилий и пьяница Исидор, оба моложе Феофана, второй аж лет на двадцать, хотя по его одутловатому, багровому лицу этого и не скажешь.
Волнения на озере почти нет, вдоль берега дует легкий южный ветер, тепляк. В планах добыть леща, готовящегося к нересту. Когда начинается икрометание, рыба перестает двигаться и жор прекращается, сейчас еще напоследок набивает брюхо …
Хотя молодежь в рыболовстве и не новички, Феофан чувствует, что он, как самый старший по возрасту, да и ответственный по положению, должен делиться своим опытом. Например, подсказать, что, стравливая невод, его нельзя держать в натяг, иначе скрутится. И грузила следует привязывать так, чтобы хорошенько заякорить нижнюю тетиву, тогда возникает как бы стенка, в которой застревает рыба. Лещ ходит стаями, информация передается друг другу на расстоянии. Если при ловле леща удочкой плохо закрепить крючок и рыба срывается, в этом месте долго не будет ни одной рыбины.
– То же и с сетью! Один раз вытащишь и все – есть улов или нет его. И не говорите потом, что я не предупреждал, – поучает Феофан.
– Да хватит, дядюшка, – нахмурившись, огрызается Меркул. – Сами знаем, как жить – еще и получше, чем предки. Теперь пришло время молодых.
– И надолго? – Феофан качает головой. – В конце концов, время всегда за стариками остается. Спешат молодые-то…
– Но молодые стариков переживут. Так что посмотрим, чье время будет.
– Ой, дети, нет у меня желания всех вас пережить, нет! Ан, похоже, все к тому и идет. Это оттого, что вы Бога не боитесь!
Меркул зло усмехается и уже открывает рот, чтобы ответить, но вмешивается Харитон.
– Заткнись, сука! – говорит он с угрозой.
Меркул умолкает. В лодке Харитон самый сильный, да и в деревне, кажется, тоже.
– Да как же ты так, упаси Господь, на воде-то! – шепчет побледневший Феофан.
Трифилий и Исидор тоже неодобрительно качают головами, с укором глядя на Харитона, – споры и ругань в лодке сулят несчастье. Словно в подтверждение над лодкой со злорадным скрипом пролетают чайки, похоже, что они смеются.
Вопрос, где забрасывать сеть, споров не вызывает. Феофан знает глубины и луды, ветер и волны достаточно хорошо. Наверняка есть для ловли места и получше, но их с помощью одного только опыта не найти, нужна удача – до сих пор она Феофану, как правило, сопутствовала. Вскоре сети поставлены. Под водой их удерживают плотно обвязанные веревками камни, верхнюю часть держат на плаву деревянные поплавки и кухтыли – полые стеклянные шары в оплетке.
Мужчины гребут обратно в порт.
За лодкой тянется едва заметная рябь. Феофан единственный, кто это замечает, но и он не знает, что лодку сопровождает метровая щука, настоящая владычица озера, которую не сумели поймать ни в эстонское время, ни в царское.
Невзирая на то, что преждевременные приготовления многими считаются плохой приметой, там-сям уже точат ножи, заготавливают соль и ведра, отскабливают решетки коптилен, даже закладывают в топки дрова. В прежние времена в обычае было рыбу сушить, вялить и хранить в бочках, но в предвоенное десятилетие пришло понимание, что лучше копченой рыбы ничего нет – и вкусно так, что язык проглотишь, и сохраняется хорошо и долго.
За домом Архипа между маленьким яблоневым садом и длинными грядками несколько коптилен – все сложены из красного кирпича, потемневшего от сажи и копоти. По традиции за них в ответе бабушка Акулина, однако истинный мастер здесь Богдан, которого по обыкновению не взяли на озеро. Проворно взлетает топор в его руке – никто не знает, как ему удается точно попадать по полену, видать, сам топор в помощь. На растопку идут сухие полешки, поверх мелко наколотые щепки ольхи, краснеющие в местах сруба; ольха – единственное дерево, в котором, как и в человеке, течет кровь, но что поделаешь, приходится рубить и сжигать. Да в окрестностях деревни ничто кроме ольхи и не хочет расти, может, только в местах повыше и посуше какая сосна вырастет, низенькая ель или одиночное лиственное дерево с особо упорным характером.
– Ну чего мелко-то так… не стОит! – ворчит бабушка.
Богдан не уступает:
– СтОит, стОит… иначе как эти насквозь мокрые дрова загорятся…
– Хватит, сынок, довольно! Не на всю ж деревню…
Вскоре полешек более чем достаточно. Но Богдан не унимается – собрался надрать большую охапку крапивы, но тут уж бабушка решительно противится – рано ведь, завянет и не придаст копченой рыбке золотистого блеска. Крапива – творение Господа, хоть и обжигает, но не дело ее без нужды губить.
Богдан пристраивает очки между веток яблони. Что-то бормочет, растягивается, делает стойку на голове, потом с закрытыми глазами начинает подбрасывать в воздух березовые полешки и ловить их. Большинство ловит, редкие падают на землю. Бабушка качает головой – занять бы его чем-то полезным, да в голову ничего не приходит.
С улицы слышен звук мотоцикла.
Богдан, как раз расстеливший на земле старый коврик и усевшийся на нем в позе портного, поворачивает голову. Он не ошибся, тарахтение прерывается возле их дома. Слышатся мужские голоса, скрипнули ворота, залаяла собака.
Богдан спокойно поднимается, и прежде, чем он успевает нацепить очки, из-за угла появляется Эдисон Васильевич с незнакомым мужчиной. На том штаны с красными лампасами, на боку кобура коричневой кожи. Молодое с мягкими чертами лицо склонно к ожирению, на наметившемся втором подбородке отливает морковным цветом редкий пушок.
– Добрый день!
– Добрый-добрый, сынки, – откликается бабка Акулина и, опираясь на клюку, идет им навстречу. – Что привело вас
к нам?
Эдисон Васильевич хвалит хорошую погоду, спрашивает, как работается. Незнакомец молчит, рассматривает коптильни.
Эдисон Васильевич говорит без умолку:
– Увидите, скоро новый порт построим… Москва пришлет большие моторные суда! Славно заживем, славно и дружно…
– Это хорошо… это хорошо, помоги вам Бог! – одобряет Акулина.
– Ну, и как настроение у молодежи? – поворачивается к Богдану Эдисон Васильевич. Тот пожимает плечами.
– И чего вы все так? Я тоже не старый, но не пойму – вы только и знаете, что плечами пожимать. Разговаривал утром возле лодок с Харитоном, разговаривал с Пименом – плечи так ходуном и ходят, как мельницы – сыпь зерно и мука будет! У тебя очки, наверное, книги читаешь…
– Как нам, деревенским, отвечать-то?.. – говорит Богдан. – Понимаешь… не понимаешь… а все одно, как есть, так и есть.
– Ну-ну, вот видишь, говорить умеешь! А на собрания мог бы и ходить. Братья иногда приходят, набираются ума. Нынче новые времена, всем надо учиться. Я вот тоже учусь постоянно. У вас радио есть?
Тут незнакомец отрывает взгляд от коптильни.
Богдан опять пожимает плечами, на что Эдисон Васильевич хлопает себя по лбу и смеется – искренне, но не без натуги.
– Ну ладно, ладно, об этом лучше у бабушки спросить. Тетушка Акулина? – кричит председатель в направлении дома, где незаметно скрылась старуха.
Незнакомец машет рукой и впервые открывает рот.
– Хватит вилять, – произносит он по-эстонски. – Говорите, сколько в доме радиоприемников?
– Один, – отвечает Богдан. – А кто это спрашивает?
– Я спрашиваю, – произносит незнакомец и переходит на русский, на котором говорит c сильным акцентом, но довольно правильно. – Позвольте представиться: старший лейтенант Раймонд Уускюла, участковый уполномоченный.
– Приятно познакомиться, товарищ Раймонд, – с почтением произносит Богдан, но от милиционера не укрывается мимолетная усмешка, тронувшая уголки рта. – Богдан Архипович, инвалид.
– Да это он так, вообще-то он парень что надо, – встревает Эдисон Васильевич.
– У меня приказ зарегистрировать все радиоприемники, – объявляет Раймонд. – Запад начал транслировать провокационные передачи, содержащие империалистическую пропаганду. Негоже, чтобы они смущали покой трудящегося народа.
Богдан в третий раз пожимает плечами, и на сей раз никто не смеется.
– Товарищ, я не собираюсь больше повторять, – холодно произносит Раймонд
И хотя Эдисон Васильевич пытается подать знак, что, может, и не стОит, тем не менее мужчины через глухой двор идут внутрь дома. В самой большой части дома, где находится хлев, одновременно служащий и конюшней, громко фыркает лошадь, мычат две коровы, хрюкают свиньи – все они давно переписаны. Еще во время войны скотины было больше, но ее или забили, или отдали на неопределенный срок, чтобы избежать обвинения в кулачестве, мироедстве и связанными с этим местами, не столь отдаленными. Достаточно наслышаны с другой стороны Чудского озера, какие репрессии могут свалиться на голову за излишнюю хозяйственность.
И вот теперь милиционер приказывает предоставить радиоприемники. Никогда не знаешь, откуда ждать опасности.
Перед тем как попасть в комнаты, надо подняться по деревянным ступенькам на широкую площадку – в сени. В углу – верстак с тисками и плотницким инструментом, рядом с дверью – лестница на чердак, в другом углу – помойное ведро. Милиционер все внимательно оглядывает, запоминает. Сапоги вытирают о чистый мат, лежащий на городской манер перед дверью. Открыв ее, сразу попадаешь в кухню – возле двери хозяйская постель, отгороженная от остального помещения ситцевой занавеской. Большая плита, на которой готовят еду, а зимними холодами варят и пойло для скотины, в другое время эта вонючая процедура происходит в банном котле. Обеденный стол длинный, если потесниться, за ним уместится вся семья, но обычно тут трапезничают по очереди.
В центре дома огромная русская печь, которая топится из кухни – в устье печи помещается горшок с варевом, туда же на деревянных лопатах-садниках сажают в печь хлеб. В углублении перед устьем плита – шесток, возле которого возится жена старшего брата Таисия с большим животом. Печь только затоплена, в кухне пахнет дымком. На широких полках под потолком, воронцах, мешки с луком, рыболовные снасти. Средняя комната – помещение чистое, туда выходит глухая теплая стенка с лежанкой, на которой болтают ногами два ребенка в одних рубашонках. У стен с окнами – кровати, та, что против двери, загорожена одежным шкафом. Задних комнат три – большая и две узенькие каморки. Внутренних дверей нет, только
занавеси.
Скудная мебель предназначена для первоочередных нужд – длинная лавка, табуретки, письменный стол, керосиновые лампы. Электричество к дому не подведено. На комоде стоит громоздкий приемник, рядом круглая черная тарелка – жестяной громкоговоритель – и большая батарея, встроенная в деревянную раму, заряжать которую ходят в деревню.
– Так, значит… Ну и где настоящее радио? – спрашивает Раймонд.
– Какое такое настоящее? – изумляется Богдан. – Это «Филипс»… что – не нравится?
– Ты со мной не шути, – сердится Раймонд. – Спрятали? Я ведь могу и обыскать дом. Найду – мало не покажется.
– Еще есть на чердаке, – признается Богдан.
– Показывай…
Первым наверх лезет Эдисон Васильевич.
На чердаке в потемках возится Серафима, снимает со стропилины березовый веник, один из последних, оставшихся с прошлого года.
– О-о, Серафима Архиповна, приветствую вас! – говорит Эдисон Васильевич и подмигивает девушке.
Под тяжелыми шагами в воздух поднимается пыль. Эдисон Васильевич громко чихает.
– Ой, кто это с вами? – удивляется Серафима.
Оперуполномоченный Раймонд одергивает гимнастерку и протягивает руку. Из щели в крыше между домом и глухим двором на волосы девушки падает горсть света, отражается в ее глазах. Без стеснения отвечает Серафима на приветствие. Прикосновение теплых пальцев девушки вызывает в руке милиционера странную дрожь.
– Идите сюда, – зовет Богдан из-за кучи барахла.
Все подходят к чердачному окошку. На столике стоит более современный на вид аппарат. Оперуполномоченный щелкает включателем, крутит ручки настроек. Радио молчит.
– Немцы бросили, – говорит Богдан. – Нужной батарейки не нашли. Может, и вовсе поломанный… Мы люди простые, починить не можем.
Милиционер оглядывается, листает книги, вопросительно смотрит на Эдисона Васильевича. Тот незаметно крутит пальцем у виска.
– Зачем вам радио, если его не послушать? – спрашивает милиционер.
Уголки рта Богдана поползли в стороны, он склоняет голову на бок и, приблизившись к лицу чужака, всматривается в него:
– Молчащее радио говорит больше…
Эдисон Васильевич начинает спускаться. Раймонд секунду колеблется, оглядывается – Серафима уже исчезла. Он машет рукой и следует за председателем.
Богдан садится на старую кровать, придвигается к свету, берет начатую книгу, но не читает, а смотрит своими подслеповатыми глазами на светящуюся точку в крыше, покрытой дранкой.
Спустя несколько минут на чердак возвращается Серафима. Пошарив в сене, нащупывает спрятанную там от чужих глаз батарейку для радио. Она садится рядышком с братом, и тот тихонько гладит ее по волосам. Вдруг хватает за руку и впивается близоруким взглядом в ее глаза.
– Что? – спрашивает Серафима.
– Все мы заложники сегодняшнего дня, завтра всё приближается, но никак не дойдет… Что тревожиться о завтрашнем дне? – произносит Богдан.
– Да я и не тревожусь, – отвечает сестра.
На улице Эдисон Васильевич бежит заводить мотоцикл, оперуполномоченный на ходу прыгает ему за спину. Раймонд хватается правой рукой за козырек фуражки, холодный встречный ветер так и норовит заполучить ее себе. Он смотрит на стоящие в ряд торцы домов, озеро и полосу камышей, что виднеется в просветах между кустов, домов и заборов.
Как относиться к этим высоким чернеющим грядкам, рыхлая земля которых более всего напоминает зловещие свежие могилы? Как узнать, что думают о тебе эти странные причудские жители, всегда останавливающиеся на улице, чтобы перекинуться через забор фразой-другой? И хотя они выполняют простую работу, беседуют о простых вещах, объединяет их неизъяснимое понимание жизни, непроницаемой пеленой закрывающее все их желания, страхи, надежды и будничные заботы. Можно опустить руку в воду с какой угодно силой, она все равно вытечет из ладони, намочив пальцы и оставив неразборчивый и быстро высыхающий знак. Оперуполномоченный Раймонд понимает, что насильно подчинить власти их можно, как и всех прочих людей, но ни огнем, ни мечом невозможно продраться сквозь пелену их понимания жизни. Чтобы этот край превратить в часть нового, советского мира, надо изменить душу здешних людей. Как это сделать, Раймонд не знает, да, собственно, ему это и не нужно, пока существует порядок и выполняются спущенные сверху приказы.
В сумерках, поставив вычищенные сапоги на тряпицу возле кровати, натянув до подбородка отсыревшее одеяло, он закрывает глаза. Карты перетасованной колоды будничных мыслей расползаются по темным углам комнаты, и в голове остается единственно ясная и земная цель – взять в жены красивую дочь сельского старосты из Кольки.
Вечером на озере слышен громкий плеск – это нерестятся лещи. Бывалые люди, заслышав его, качают головами и идут проверить окна, чтобы не остались на ночь открытыми, и белье, чтобы не осталось сохнуть на улице. К утру разыгрывается шторм – мощный весенний ураган, который уляжется через день-два и не испортит погоды, напротив, деньки станут еще краше.
*
– Здравствуйте… здравствуйте, уважаемые, – скрипящим, как негодная скрипка, голосом окликает Сергей Васильевич. – Пришел просить вас о курином семени!
– Чего городишь, человек? – удивляется тетка Варвара. – Феофан, выйди… у нас гость!
– Ну… семечко-яичко от курочки-петушка, – поясняет гость. – Любезные, помогите нам, бедным! Не осталось у старушки Глафиры даже цыпленка, все съедено.
– Чего он хочет? – кричит Феофан.
– Мне откуда знать… иди сюда! – всплескивает руками Варвара.
Сергей покорно ждет, бормоча что-то под нос.
– Говорит, что всех кур съели, – объясняет Феофану Варвара.
– Именно так, именно так, – подтверждает Сергей. – Поставил сковородку греться, нарезал шпика и лука – добавить бы пару яиц, ан, нет! У вас красивые коричневые курочки – помогите крещеному человеку! Были и у меня прежде цыплятки-курочки – война отняла вместе с домом. Не может человек хлебом единым да рыбой жить, – что с того, что Иисус Христос раздавал.
Гость произносит имя Сына Божьего по-новому, с долгой «и». Понятно, не из наших, думает Феофан, но таких много, нельзя же из-за этого отворачиваться. Феофан в растерянности. Ну как вот так, просто взять и отдать, у самих не куриная ферма. Может, посоветовать к кому другому обратиться, но странно как-то выгнать человека, да и посоветовать некого. Он приглашает гостя в дом – мужчины должны промеж собой спокойно дело обсудить, нечего жене рядом торчать, вмешиваться… Торг не затянулся. Сергей Васильевич отбыл с рыжей пеструшкой под мышкой. Договорились: если дать курице высидеть яйца и цыплята появятся, сколько бы их ни было, за ними надо хорошенько ухаживать, тогда и душа в теле останется.
– Эй, старик! Поросенку воды принести нужно, жажда животинку замучила! – зовет с глухого двора Варвара. – Иди же, Феофан! Не справиться мне одной… Харитон-то не вернулся!
Но Феофан не слышит, зачарованно сидит у кухонного стола. Прижимает только что обретенные часы к уху, цокает в такт их тиканью. Осторожно оттягивает заводную головку, выставляет точное время – настенные часы показывают пять без минуты. Эх, такую бы власть над всей жизнью! Крути себе, как душе угодно –хоть назад, хоть вперед. Он наблюдает за подрагиванием длинной стрелки, секунда за секундой. Еще чуть-чуть, хоть это ничего не меняет, – и стрелки дергаются, становясь на место. Под глухие удары отворяются створки на стенных часах.
– Ну что, кукушка, нравится? – спрашивает Феофан. Он встает и победно поднимает под углом руку.
Юный Меркул с мешком рыбы на плече направляется домой. Он не отдал своей доли в Архипову коптильню, отказался от его любезного предложения. Хочет коптить по-своему, не полностью на ольхе, а ольху заложить вначале, а перед самым концом добавить охапку еловых или сосновых щепок – для вкуса. Проходя мимо дома Феофана и Варвары, он бросает взгляд на дом с синими наличниками, из окна слышно, как кукует в часах кукушка. Ничего себе! Хозяин стоит посреди комнаты и приветствует часы немецким жестом. С чего бы это? И о чем только он думает?
Меркул качает головой. Не дело это…
Он часто просыпается по ночам, в памяти только одна картина: как в 1942 году мужики с белыми повязками на рукавах колотят в их двери, переворачивают весь дом и уводят с собой отца. Потом сообщили старосте деревни Архипу, чтобы приехал с телегой. И хотя мать противилась, Меркул сам обмыл изрешеченное пулями тело отца и обрядил его. Воду после обмывания, как и положено, выплеснули в подвал, убитого похоронили на кладбище, что из того, что умер среди чужих вооруженных людей и без исповеди, без разрешительной молитвы наставника. Когда умирал, небеса были с ним, утешил тогда Архип.
*
– Не будешь теперь обо мне плохо думать? – спрашивает Аполлинария. Ее голова покоится на плече Харитона. Тот нежно перебирает волосы девушки. – Так как?..
– Что – как? – спрашивает юноша.
Аполлинария в тревоге поднимает голову, молчит.
– Поленька, дурочка, – шепчет Харитон и крепко прижимает девушку к себе, – теперь ты моя жена.
– Да? – все еще тревожно, но с надеждой в голосе откликается девушка.
– Да, ты жена мне! С этой минуты, перед нами… Отныне и навсегда!
– А перед другими?
– Что нам другие, у них своя жизнь, у нас своя, – отмахивается Харитон. Он пытается поцелуями прекратить вопросы, но Аполлинария не отступает, а прижимает его руку себе между ног.
– А с этим как?
Харитон видит на своих пальцах красный след. На его мужественном и решительном лице отражается озабоченность. Вот она, реальность, неотвратимая и вездесущая. Сделанного не воротишь, будь времена хоть какие сложные.
– Вот зима настанет… – говорит Харитон.
Аполлинария поворачивается к нему, двумя руками притягивает его голову, всматривается в глаза.
– Обещаешь?
– Обещаю, уже пообещал! Но в жизни ведь как – человек предполагает, а Бог располагает…
С озера доносится громкий скрип уключин. Над зарослями тростника, где они лежат, проплывает тень от облака. Ветерок доносит до них аромат цветущей черемухи, что растет поблизости, запах одновременно и сладкий, и терпкий.
*
Пуговиц спереди ровно дюжина, по шесть в ряд, сзади еще четыре – все сверкают ярче звезд в ночном небе. Ремень надевается чуть выше линии пояса, проходит между нижними пуговицами. Темно-синяя шинель отделана красными рантами. Рубашка свежепостирана и накрахмалена, форма новенькая, с иголочки. Надевая ремень, оперуполномоченный сталкивается с проблемой – она для него тоже новая – бляха никак не хочет пролезать в ушко, вдобавок и руки у него, закаленного фронтовика Раймонда Уускюла, дрожат!
В дверь стучат.
– Так, командир, вот и сапоги! – говорит Эдисон Васильевич.
Он протягивает Раймонду сапоги с высокими голенищами, такие блестящие, что хоть вместо зеркала в них смотрись, – этим искусством председатель владеет лучше кого-либо другого. Не сотни, тысячи сапог он с малолетства начистил до блеска! Тяжко пришлось, когда мать с тремя детишками на руках одна осталась, – пришлось искать, как заработать хотя бы какую копейку, пусть и похоже это было на попрошайничество.
Кобура сбоку, фуражка на голове, в руках большой слегка привядший букет роз, стоявший до этого на столе в широкой хрустальной вазе. Оперуполномоченный готов.
– Ну, идем… вон и солнце выглянуло!
Раймонд кивает, вроде как хочет что-то сказать, но не находит слов.
На улице и впрямь светит солнце, но пока они щурятся, привыкая к яркому свету, вдруг снова начинает накрапывать. Редкие теплые капли дождя, падая в ярко-зеленую траву, сияют и переливаются в ней.
По улице на обеденную дойку тянутся коровы.
– Э-э-э!.. Куда, изверги? – размахивая свежим прутом, прикрикивает какая-то бабка.
Мужчины конфузятся – их заметили. Бабка здоровается, останавливается поглазеть. Да и есть на что. К рулю трофейного мотоцикла Эдисона Васильевича привязаны красные ленты. Из коляски торчит деревце молодой березки.
С некоторой задержкой, но Эдисон Васильевич отвечает на приветствие:
– Ну, здравствуйте-здравствуйте, как вас величать-то…
– Так Ефросиньей нарекли, жена Киприана я. Все кличут теткой Синьей. Куда это вы направляетесь – никак свататься?
– Ой, да что вы, тетка Синья, мы это так, агитацию проводим, – видите, красные ленты тут у нас…
– А-а-а, ну как знаете. Но это знамение…
– Где вы знамение видите?
– А то, что дождь идет и солнце светит разом, вот как сейчас. Говорят, в такую погоду русалки купаются. Не знаю, сама не видела. Но что-нибудь это да значит, раз у вас намерения впереди…
– Да какое там знамение, мы – коммунисты, мы в приметы не верим.
– Как знаете, как знаете… Ну да Бог с вами, сынки, – говорит тетка Синья и прутом огревает Раймонда по заднице.
– Ай! – от неожиданности высоким бабьим голосом вскрикивает он.
Ничего не объясняя, деревенская старуха, гонит коров дальше. На ее лице играет улыбка.
Раймонд недовольно насупливается, но сдерживается – поди знай, что за обычай, сопровождающий сватовство, побудил старуху ударить его розгой. От неожиданности у него перехватило дыхание, словно жаба в глотке засела. Трофейный мотоцикл, повидавший на своем веку много фронтовой грязи, с первого раза заводиться не желает. Раймонд и хотел бы свой мотоцикл предложить, но слова все еще застревают в горле. С пыхтением мужчины пытаются сдвинуть с места тяжелую машину. Та дергается, чихает и умолкает. Предпринимают следующую попытку. Эдисон Васильевич наступает на коровью лепешку, проклинает ее, но не останавливается, отпускает сцепление – «цюндапповский» мотор урчит, хлюпает, кашляет и вдруг начинает ровно работать.
Даже двигаясь очень медленно, за несколько минут они оказываются пред домом Архипа – вполне можно было и пешком дойти, но негоже на такое важное дело отправляться как последнему бедняку, думает Эдисон Васильевич. Он спрыгивает с мотоцикла, спешит к воротам и распахивает их настежь. С криками сбегаются соседские ребятишки, с любопытством наблюдают, как мужики под хрюканье мотора поворачивают за угол дома так, что заднее колесо заносит на растоптанной в грязь земле, а коляска почти взмывает в воздух.
Мотор стихает.
Запах лошадиного пота щекочет ноздри.
Раймонд икает.
Небо над озером затягивает тьма. Из дома, из хлева, из сада появляются домочадцы Архипа, среди них и Богдан, который направляется прямиком к Эдисону Васильевичу. Здороваясь, он с самой невинной улыбкой по-детски шаркает ножкой.
Раймонд снова икает, пытается задержать воздух и медленно сосчитать до десяти. В этот момент он рад, что остается никем не замеченным, но его охватывает еще большая нерешительность.
– Нам бы, вот… – начинает Эдисон, – с хозяином словом перекинуться. Сам-то где?
Кто-то кивает в сторону загона, откуда уже показался Архип с вожжами в руках. Он здоровается за руку с обоими гостями.
– Уважаемый товарищ, – торжественно начинает Эдисон Васильевич, – слыхал я, что по части лошадей ты мудрее царя Соломона… Хотелось бы нам, так сказать, сделку заключить.
Прищурившись, Архип окидывает гостей оценивающим взглядом.
– Ладно, проходите в покои…
Они проходят в дом. Женщин и детей отправляют на двор.
В большой комнате Архип крестится на иконный угол. Эдисон, бросив неуверенный взгляд на Раймонда, тоже осеняет себя крестным знамением, но не двумя перстами, как Архип, а по-новому – тремя. Раймонд неопределенно двигает рукой, словно бы сгоняя с живота муху. Архип едва заметно покачивает головой.
Только Эдисон Васильевич успевает начать аллегорию о кобылке, которой так не хватает в молодом и ладном хозяйстве крепкого государственного человека Раймонда, как тот вновь громко икает.
Архип вздыхает, машет рукой:
– Погодите-ка, – и переходит на эстонский. – Раймонд Уускюла, так ваше имя? – Раймонд кивает. – Не могли бы вы помочь мне с эстонским?
Раймонд снова кивает, понимает и сам, как глупо это выглядит, но говорит, пожалуй, слишком громко:
– Да! – И тут на него нападает очередная икота.
Архип выкладывает на стол книжицу в мягком переплете.
– Вот… вы отсюда прочитайте и скажите мне, что под этим подразумевается.
– Это же… это…
– Я знаю. Вы читайте…
И растерявшийся Раймонд читает полушепотом:
– Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские… – Раймонд икает. Архип кивает, продолжайте, мол. – Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у власти, не ославили бы («ик-к!») коммунистической? Где та оппозиционная партия, которая в свою очередь не бросала бы клеймящего обвинения в коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и своим реакционным противникам?..
Раймонд снова икает, старается, но никак не может нормально вдохнуть. Не спеша поднявшийся Архип зажимает ему нос и рот – держит крепко, пальцы тонут в мясистом лице. Раймонд старается вырваться, но сладить с этим чернобородым патриархом не смогли бы и несколько мужиков вместе взятые.
– … четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… – бормочет Архип.
На двадцати пяти он отпускает пленника. Тот хватает ртом воздух. Краснота волнами поднимается от шеи к лицу, теряется в светлых кудреватых волосах. Он скрипит зубами, и без того маленькие глазки превращаются в щелки и скашиваются к переносице. С большим трудом ему удается сдержаться.
Словно ничего и не произошло, Архип приносит из кухни кружку холодной воды и ставит на стол. Эдисон успокаивающе машет жениху и пытается продолжить с того места, на котором был прерван, но старый деревенский староста кидает на него предостерегающий взгляд.
– Так-так, добрый человек, – говорит он на русском. – О девушке речь, да? О Серафиме?
– О Серафиме, да, – отвечает Раймонд. Глоток воды возвращает ему уверенность, об икоте уже забыто.
– Так и надо говорить, а то вы о каких-то телушках да кобылках… Чего с нами, простыми людьми, крутить-то… У девицы спросили? Нет? Ну да, можно и так, можно и так…
Архип смотрит в окно. Из него виднеется озеро, над которым из темно-лиловых туч уже слышатся первые раскаты грома. Эдисон Васильевич озабоченно следит за начинающейся грозой – ай-яй-яй, угораздило же время выбрать.
– Вообще-то, у нас… вот… так принято, что поздно вечером приходят, – добавляет Архип, будто прочтя его мысли. – И березка ни к чему… Теперь вся деревня ожиданием взбудоражена.
Раймонд краснеет, но выговаривает почти спокойно:
– Так ведь у меня… советчик был… специалист в этом деле.
Архип отмахивается.
– Ну, женишок, я тебе «нет» говорить не стану. Ты достойный человек, будешь здесь жить у озера, познакомишься со всеми, тебя оценят. И нужды твой дом знать не будет, сможешь жену прокормить и детей одеть, выучишь их, чтобы на тяжелой работе не надрывались… Так ведь? Ну, тогда твое дело верное.
Раймонд не может поверить, что все решилось так просто. Уголки рта сами собой дергаются в улыбку.
– Исидор! – громко зовет Архип.
Один из средних сыновей входит в комнату, смотрит на отца и исчезает ненадолго, вернувшись с бутылкой водки и тремя рюмками.
– Значит, так, уполномоченный, ответ должна дать Серафима. Хочешь, говори с ней сам, хочешь – поговорю я.
Архип вытаскивает из бутылки пробку и наливает полные рюмки.
– Так как, решил?
Жених беспомощно оглядывается на Эдисона. Тот перебирает пальцами, словно и не видит.
– Может, лучше… если вы сами, – говорит Раймонд. – Война не обучила разговаривать с женщинами.
– Да и мы так же, куда нам. Прежде узнаешь, где живет бабушка леща, чем поймешь, как и о чем думает женщина. Будем здоровы!
На улице громыхает и сверкает уже не на шутку. Призрака, что бродит по Европе, при прощании больше не поминали, но и ночью Раймонда не перестает терзать вопрос: его и впрямь лечили только от икоты или хотели ему что-то сказать? Хуже всего, что едва тяжелеют его члены, как сразу сотрясает дрожь – да, это тикают настенные часы, это погромыхивает удаляющаяся гроза… Но кто сказал, что призраки бродят беззвучно? Он открывает окно, набирает полные легкие весенней свежести. На востоке на небе появилась голубая полоса, и вот уже самый усердный местный петух оглашает деревню первым звучным криком.
*
В доме возле пристани после ухода гостей никак не наступит покой. Сверкают молнии, шумит ливень. Хорошо хоть скудный улов успели вынуть из коптилен – такой дождь затушил бы любой огонь. Арабский жеребец Исраил, испугавшийся грозы, с выпученными от ужаса глазами мечется по загону. Мужчины по очереди ходят сторожить его. Возвращаются мрачные, вымокшие до нитки.
– Ой, Дева Мария, Матерь Божья, какое предзнаменование! – причитает в отчаянии бабка Акулина.
– Хорошее предзнаменование, матушка, хорошее! – спокойно говорит Архип. – Молния очистит воду, пойдет рыба… и не так, как вчера, – три плотицы в четыре ряда.
Долгое время в доме обмениваются лишь короткими фразами по делу.
Затем Архип и Серафима вдвоем выходят на двор, не обращая внимания на дождь, идут к бане и садятся в низком предбаннике. В котле предбанника варится пойло, им лакомятся и сотни мух. Когда мушиный писк становится невыносимым, Серафима поднимает глаза. Они сухие, серьезные.
– Как же вы меня так! Еще и такому!..
– Какому – такому? – удивленно вскидывается Архип. – Первый же посватавшийся, да, это правда… но посмотри на наших парней – почти все выбрали себе кого-нибудь. Скоро в деревне только и будет слышно, как бубенцы заливаются! И сколько девиц вытрут слезы, когда мимо окон молодые проедут в упряжке с белой лошадью – ох, красиво, а у меня-то почему ничего?
– Батюшка, но вы только подумайте, кто он… подумайте, что сейчас творится и что раньше творилось! Впервой, когда пришел, – где радио, сколько штук, почему такое – еще хорошо, что солдат с собой не привел!
– Ну, а нынче пришел с этим Эдисоном. Он ведь эстонец – мы живем по-своему, они по-своему. Что теперь с нас взять, все лишнее отдано.
– И я… я что – последняя лишняя вещь в доме? – в отчаянии вскрикнула Серафима. – Ох, была бы матушка жива, она бы меня!..
– А вот это ты зря, не надо бы… – жестко говорит Архип. – У нас так заведено, что один в доме хозяин, один решает.
Он медленно выходит на двор, где громыхание небес передало бразды правления монотонному шуму дождя, шуршащему в листве. Даже запахи лошадиного загона очистились и стали прозрачными, смешались с жизнетворным духом растений и земли.
Ну что ж, думает Серафима, рано или поздно это должно было произойти, случилось у других, случится и у нее. Прав ведь батюшка, надо жить, и никто не проживет за нас нашу жизнь. Пусть будет так, но ведь деревенские парни даже и думать не смеют о том, чтобы в зятья к Архипу проситься. И чем дольше сидит Серафима на лавке в предбаннике – комары и кормящиеся из котла мухи, обсидевшие беленую теплую стенку банной плиты, нисколько не мешают ей, – и смотрит через открытую дверь в светящуюся ночную тишь, тем сильнее крепнет в ней мысль полностью не отдать себя, а взять с собой в будущую жизнь хоть одну настоящую тайну, прежде, чем не станет слишком поздно.