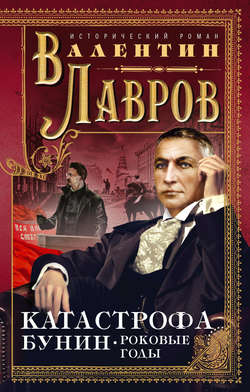Читать книгу Катастрофа. Бунин. Роковые годы - Валентин Лавров - Страница 13
Часть первая
Крушение империи
Боже, царя храни!
Оглавление1
Когда-то в молодые годы Бунин неустанно торопил время. Будущее всегда рисовалось заманчивыми красками. Впереди маячили новые радости, новые встречи, новые влюбленности и выход новых книг. Но наступало это будущее, остывали амурные страсти, недолго радовали уже вышедшие книги, и счастье таяло, как тонкий иней под июльским жаром.
Когда перевалило за сорок, Бунин произнес с некоторым удивлением:
– Да ведь это не время, это сама жизнь уходит. Может, и впрямь прав Толстой: лучшего времени, чем настоящее, никогда не бывает?
И, осознав, что новые радости и новый успех приобретаются лишь в обмен на прожитые годы, он более никогда не погонял свою жизнь.
Но уже несколько месяцев Иван Алексеевич, как миллионы других россиян, с нетерпением ожидал великого события – Учредительного собрания!
Собственно, отказ государя от трона и последующие события шли под лозунгом созыва этого собрания. Казалось, после февраля семнадцатого года идея собрания из эфемерной и теоретической обязана воплотиться в жизнь. Никто против «учредиловки» не возражал. В первом же «Обращении к народу» (2 марта 1917 года) председатель IV Государственной думы Родзянко и все правительство во главе с князем Львовым провозгласили о «немедленной подготовке к созыву на началах всеобщего, равного и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны».
К будущему Учредительному собранию обратился и великий князь Михаил Александрович. Он отверг наследие брата Николая II – российский трон. Впрочем, не совсем отверг, а заявил, что примет верховную власть лишь в том случае, если «будет такова воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского».
Министры всех составов – социалисты, кадеты, октябристы и прочие – при вступлении в должность подкрепляли присягу клятвой «принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок».
Спустя много лет, находясь уже в Париже, секретарь Учредительного собрания Марк Вишняк признавал: «Идея неограниченной учредительной власти, принадлежавшей совокупности суверенных граждан и осуществляемой ими по своему усмотрению, получила широкое распространение благодаря европейским теоретикам – Локку, Пуффендорфу и Вольфу».
Бессмысленные съезды различного рода – профессиональных, общественных, национальных и иных организаций составляли постановления с выражением преданности Учредительному собранию, «хозяину земли Русской». Им вторили официальные органы Православной церкви. Даже армия присягала на верность Временному правительству лишь до вступления в силу Учредительного собрания.
Столицы и захолустные городишки, фабричный люд и селяне, левые, умеренные и даже большевики – все с единодушием и энтузиазмом принимали будущий верховный законодательный орган.
2
– Нет, все-таки Учредительное собрание – это наша единственная надежда, – говорил Станиславский, у которого собралась шумная компания.
Было 4 января восемнадцатого года. Актеры, писатели, художники отмечали день рождения Константина Сергеевича. Правда, сам «малый» юбилей – пятидесятипятилетие мэтра был на следующий день, но по предложению супруги юбиляра, Марии Петровны, решили праздновать накануне, ибо в театре был свободный день. После спектакля, как собирались прежде, это было неудобно: слишком опасно стало появляться на улице в поздний час.
Вот и пришли к Станиславскому засветло. Спорили и говорили все о том же – об Учредительном собрании, которое начнется завтра в Петрограде в Таврическом дворце.
– Пусть это станет концом кровавого большевизма и началом новой великой России! – провозгласил Бунин, и все осушили бокалы а-ля фуршет.
Константин Сергеевич с пониманием кивнул и пророкотал своим чудным, бархатным голосом:
– Согласен с вами, Иван Алексеевич. Учредительное собрание – это, думаю, единственно возможный и оставшийся в нашем распоряжении путь к восстановлению демократии… Вы согласны с нами, Иван Михайлович?
Вопрос к Москвину был адресован неспроста. Гордость Художественного театра и лучший исполнитель роли царя Федора Иоанновича в пьесе А. К. Толстого в этот момент с излишней горячностью спорил со скульптором Коненковым. Дискуссия была актуальной: водки чьих заводов лучше – Шустова или Смирнова?
В разговор вступил Шмелев, ставший знаменитым после своего «Человека из ресторана»:
– Простите, что вмешиваюсь. Больную для меня тему затронули. Я внимательно нынче газеты читаю, слишком много разговоров об одном и том же: Учредительное собрание, Учредительное собрание…
– Иван Сергеевич, вы не правы! – улыбнулся Бунин. – Иван Михайлович с Сергеем Тимофеевичем с аппетитцем говорят о более насущном…
– Не смейтесь, Иван Алексеевич! Какие могут быть шутки, когда большевики захватили власть и с каждым днем узурпируют ее все более? Неужели вы думаете, что делают они это лишь для того, чтобы законней провести это собрание и провозгласить демократическую республику?
– Она уже провозглашена! – вставил слово Станиславский.
Москвин закончил мудрой сентенцией:
– Для почину выпить по чину! – Что и было сделано.
– Третьего сентября уходящего революционного года свершилось неслыханное надругательство над идеей Учредительного. Гражданин Керенский самолично присвоил себе права собрания и провозгласил Россию республикой…
– Не монархию же, а республику, – заметил Коненков.
– А делать этого все равно не стоило! Лишь Учредительное собрание уполномочено на это…
– Вы, Иван Михайлович, безусловно, правы! – Станиславский хотел ужинать, а политические споры ему всегда претили. – Большевики назвали окончательную дату созыва собрания – пятого января. Вот завтра еще раз республика и будет декларирована.
Шмелев нервно дернул головой и резко отчеканил:
– Большевики власть не отдадут – ни Учредительному собранию, ни эсерам – никому!
Бунин скептически улыбнулся:
– Как это – не отдадут? Ведь выборы двенадцатого ноября обеспечили большинство мест в «учредиловке» не им, а эсерам!
Москвин еще раз блеснул замечательной памятью:
– За эсеров отдали голоса пятьдесят восемь процентов избирателей, а за большевиков лишь двадцать пять.
Шмелев возмутился:
– Каждый пятый одобряет кровожадных ленинцев! Это и удивительно, и возмутительно.
– Да, русского человека понять невозможно, – кивнул Станиславский.
Шмелев продолжал:
– Впрочем, количество ничего не решает. Беда в другом: с оружием у сторонников демократии во все времена было хуже, чем у экстремистов. Один пулемет говорит убедительней тысячной толпы.
– Но повсюду созданы комитеты в защиту Учредительного собрания. Даже ко мне приходила депутация, и я поставил свою подпись.
Шмелев невежливо расхохотался:
– Ну, Константин Сергеевич, если подпись… То оно конечно.
В этот момент, покинув женщин, весело щебетавших на угловом диванчике, подлетела Книппер-Чехова:
– Господа спорщики! Не стыдно ли забывать дам ради каких-то глупостей?
Коненков галантно поцеловал Ольге Леонардовне руку:
– Отнюдь нет! Помним вас и любим.
– Тогда прощаем.
– А я расскажу анекдот… политический, – со смехом щелкнул пальцами изящный, почти хрупкий, с моноклем в правом глазу Алексеев.
Все с интересом обратились к нему:
– Сделайте одолжение, Алексей Григорьевич, расскажите!
– Троцкий лег спать, но предупредил часового: «Разбуди ровно в шесть утра!» Назначенное время пришло, вождь революции дрыхнет, а красногвардеец ломает себе голову, как бы деликатней разбудить вождя. «Господин» – нельзя, «товарищ» – страшно, какой он «товарищ» красному вождю? Аж вспотел, потом махнул рукой, влетел в спальню и во все горло заорал: «Вставай, проклятьем заклейменный!»
Все рассмеялись.
3
В гостиной появилась задержавшаяся из-за неловкости горничной Мария Петровна, жена Станиславского. А неловкость эта заключалась в том, что она сожгла новое платье хозяйки, сшитое за громадные деньги у самого Жоржа и в котором Мария Петровна желала быть на сегодняшнем приеме. По этой причине у Марии Петровны было скверное настроение, и стоило больших усилий скрывать досаду и раздражение.
Ей пришлось надеть черное шелковое платье с глубоким декольте и опоясанное выше талии серебряным плетеным пояском, то самое, в котором она – о, ужас! – уже справляла Новый год. Она знала, что это платье выгодно подчеркивает ее по-девичьи стройную фигуру, обрисовывает женские прелести, и это Марию Петровну несколько утешало. Когда она появилась в гостиной, блестя глянцем волос и со вкусом подобранными бриллиантами, все потянулись к ней. Мужчинам она подставляла руку для поцелуя, дамам умела бросить комплимент по поводу их платья или прически и при этом привычно следила за гостями: все ли идет согласно ритуалу, не скучают ли дамы, не слишком ли громко спорит Немирович-Данченко со Шмелевым, почему излишнее оживление вокруг конферансье Алексея Алексеева – приличное ли он рассказывает?
Когда Бунин подошел к Марии Петровне, та радушно улыбнулась и почти с искренним восхищением произнесла:
– Поздравляю, Иван Алексеевич, с новой книгой! Вчера весь вечер наслаждалась чтением.
– Какой именно? – полюбопытствовал Бунин.
– Ну, в красном переплете. Называется «Избранные рассказы». Изумительный рассказ «Числа». Я была тронута до слез.
И хотя книга была давно не новой, да и рассказ назывался не «Числа», а «Цифры», и Бунин был уверен, что хозяйка дома вовсе не читала и все эти восторги были обязательной приправой и полагались в нужной дозе, как соус к мясу, он вежливо благодарил ее, приложившись к маленькой легкой кисти.
Неслышно появился камердинер в высоких белых чулках и что-то сказал, почтительно склонившись к Марии Петровне. Она громко произнесла:
– Messieurs et mesdames, прошу к столу!
Не прерывая беседы, гости ручейком потянулись в большую залу – здесь был накрыт ужин. Свет громадной хрустальной люстры весело отражался в тарелках саксонского фарфора, в хрустале бесчисленных рюмок, фужеров, бокалов, подставках приборов, целой батареи вин, водок, коньяков, ликеров.
* * *
Уже полтора десятилетия Станиславский снимал у некоего Маркова роскошный особняк под номером 4 по Каретному Ряду. Он был о двух высоких этажах с антресолью и большим балконом.
Десяток его комнат хозяева обставили с возможной роскошью – мебелью красного дерева, зеркалами в резных рамах мореного дуба, картинами западных мастеров прошлых веков, громадными фарфоровыми вазами, уходящими под высоченный потолок шкафами со старинными книгами, гравюрами на стенах. Обстановка располагала к неге и высоким творческим порывам.
Несколько комнат на первом этаже были отведены челяди – камердинеру и его семье, кухарке, повару с женой, горничным, дворнику, кучеру, истопнику, сторожу. Самая сухая и теплая комната предназначалась старому слуге Василию, неутомимо шаркавшему ревматическими ногами по всему дому и строго следившему за порядком. Он знал Станиславского малым ребенком. И по сей день Василий почитал долгом поджидать хозяина в прихожей, отворяя ему двери и помогая снимать шубу.
Во времена стародавние, когда Алексеевы – родители Константина Сергеевича – жили в доме 8 по Садовой-Черногрязской и маленький Костенька собирался в 4-ю гимназию, что располагалась в знаменитом «доме-комоде» Апраксиных на Покровке, Василий, тогда еще молодцеватый парень с белокурой гривой волос, неизменно норовил надеть барчуку калошики:
– Что из того, что сухо? Погоды нынче переменчивые. Набежит дожжик, ножки и промочите.
С той поры минуло полстолетия, но Василий, полысевший и согнувшийся, каждый раз подходил в прихожей к Станиславскому и, протягивая калоши, требовательно произносил:
– Вы уж, барин, наденьте калошики…
– Да, нынче погоды переменчивые, – улыбался Станиславский.
– Ишшо какие! – Василий предпочитал не замечать иронии барина. – Скверные погоды… Так что позвольте, я вам калошики как раз надвину. Ботиночки лаковые, попортите…
Когда Бунин впервые увидал Василия, то не удержался:
– Фирс, убей меня бог, настоящий Фирс из «Вишневого сада».
Эта кличка так и осталась за Василием, любившим вспоминать «правильные времена», то есть времена, давным-давно ушедшие, крепостные.
За домом шел большой сад. Летом, в хорошую погоду, тут устраивались репетиции, публичные чтения и, конечно, ужины. Под тенистыми сводами беседок здесь пили шампанское Александр Блок и Федор Шаляпин, Евгений Вахтангов и Максим Горький, Мстислав Добужинский и Айседора Дункан.
* * *
Тонко звенели бокалы, мягко стучали по тонкому фарфору серебряные ножи и вилки, пенилась заздравная чаша. В канделябрах потрескивали, взвивая тонкие струйки дымков, десятки свеч (электрические лампы в начале застолья погасли). Выпили за здоровье новорожденного, за хозяйку, за Художественный театр, за Учредительное собрание.
– Господи! – перекрестился Бунин. – Мы отдыхаем, как в наивные прелестные времена наших дедушек и бабушек, во времена кринолинов, дуэлей, картежников, гусаров-усачей, когда уланы носили мундиры с ранжевыми отворотами, а желание юных дворян служить в кавалерии можно было сравнить лишь с безумной страстью к женщинам и отваге.
– И кутежи по три дня без отдыха! – вдруг раздался могучий голос.
Все повернули головы.
Дверной проем занимала гигантская фигура общего любимца – Владимира Алексеевича Гиляровского, дяди Гиляя. Этот человек словно нарочно появился на земле, чтобы испытывать себя опасностями и приключениями. Природа наградила его чудовищной силой. Уже в гимназическом возрасте он легко сгибал пятаки и ломал подковы. В четырнадцать лет «взял» из берлоги первого своего медведя. Через три года, бросив богатый дом отца, бежал бурлачить на Волгу. Дружил с ворами и бандитами. И в то же время принят в самых аристократических салонах. Статьями Гиляровского о социальном «дне» зачитывалась вся Россия.
– Ну, кутить и мы умеем! – рассмеялся Бунин. – Пить и гулять да других забот не знать! Это наше, российское, так сказать, родовая черта.
– За стол, за стол! – заворковала Мария Петровна, усаживая Гиляровского на почетное место – возле юбиляра.
– Пусть выпьет вначале штрафную! – скомандовал Коненков. – Уж будьте любезны, дядя Гиляй!
– Владимира Алексеевича и литровый кубок не испугает! – залился хохотом Москвин. – Вон какой удалец, прямо витязь с картины Васнецова. И годы не берут!
– Обратите внимание, Владимир Алексеевич, какой славный стол у Марии Петровны! – вступил в разговор художник Симов, успевавший расправляться с ароматными громадными раками, запивать их пивом и одновременно со всем этим делать наброски гостей на кусочках белого картона, лежавшего у него между тарелок. – Тут хлеба не достанешь, а нам праздник закатили!
– Особенно луковый суп, ах, духовитый! – восторгнулся Москвин. – Секрет знаете, Мария Петровна?
– Не я, – улыбнулась польщенная похвалой Мария Петровна. – Это наш повар. Надо умело спассеровать лук, подобрать хорошие томаты…
Бунин поднялся с бокалом белого вина:
– И все же, господа, я хочу сказать тост. Виктор Андреевич, этот даровитый художник, правильно подметил: в наше трудное время – и суметь столь щедро принять друзей! Я гляжу на этот необъятный и заманчивый стол, заставленный бутылками с разноцветными водками, винами, ликерами, на смугло-телесный балык, на нежную, тающую во рту семгу, на этих гигантских раков. И что же, господа? Ведь все это остатки роскоши прошлой, добольшевистской России: сильной, гордой, непобедимой! Выпьем за нашу Россию, чтобы вновь вернулись ее былые богатства и могущество! А главное – чтоб всех Троцких – Лениных с позором выпроводить с нашей земли.
– Вернуть Германии как вредный груз! – сказал Москвин.
Все подняли бокалы и рюмки, с чувством осушили их.
– Славный тост! – проговорил Шмелев, отламывая изрядный ком от блестевшей жирной глыбы паюсной икры. – А теперь, дамы и господа, товарищи и беспартийные, самое время спеть… Вас не затруднит, Александр Тихонович, сесть за рояль? – обратился он к опоздавшему к началу обеда композитору Гречанинову, ученику Римского-Корсакова и Аренского.
– Что прикажете играть, Иван Сергеевич?
– «Боже, царя храни!», чего же еще…
Гречанинов хмыкнул, но за рояль сел. Взял бравурные аккорды вступления. Станиславский побледнел и закусил губу. Москвин улыбнулся. Симов выпил уважаемой им водки Шустова и закусил маслиной. Шмелев, Алексеев, Гиляровский, Коненков, а затем Немирович, Бунин и еще кто-то грянули:
Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам!
Царь православный!
Боже, Боже, царя храни!
Смолкли последние аккорды. Станиславский для чего-то раза два-три заглядывал в окна. Теперь он вздохнул и раздраженно-вибрирующим голосом проговорил:
– Зачем такие выходки? Мало с плеч голов полетело? На улице слышно, да и прислуга, глядишь, того…
Гречанинов заиграл мелодию арии из своей популярной оперы «Добрыня Никитич» и стал вполголоса напевать, пытаясь сохранять интонации ее лучшего исполнителя – Шаляпина.
Бунин не без насмешки поддакнул:
– Это вы, Константин Сергеевич, конечно, правы! Много голов полетело. И куда больше полетит. Только большевики убивают не за российские гимны, не за заговоры даже. Убивают просто так, ради садистского удовольствия. Ибо знают, что эти преступления сойдут без наказания. Разве преданы виселице за все свои жестокости Троцкий или какой-нибудь Зиновьев? Нет, за пролитие крови их ждут большевистские награды и слава и еще… эта… как ее… якобы «всенародная любовь». Да, деяния революционеров сопровождаются цинизмом и резонерством: «Слава труду, смерть буржуям!» «Буржуи» – это все, кто не принимает участия в убийствах. Преступникам всегда выгодно втянуть в свою шайку побольше соучастников – делить ответственность. А людей порядочных – запугать, затюкать, чтоб ничей голос против кровавого царства не поднимался! Ибо запуганные, молчащие – это тоже соучастники.
Бунин на мгновение остановился и уже спокойно закончил:
– Кстати, последний раз я пел «Боже, царя храни!» будучи гимназистом в Ельце. Раз нас не сумели устрашить, стало быть, мы не рабы и не соучастники революционных преступлений…
– Да, мы заговоры не устраиваем, – успокаивающе проговорил Гиляровский. – Иван Алексеевич прав: за песни в ЧК не водят.
Но его слова звучали неубедительно. Все враз смолкли. Даже вилки больше не стучали. Бунин демонстративно громко позвал лакея:
– Принеси белого вина…
Коненков повернулся к Станиславскому:
– Давно хочется в ваш театр сходить, еще раз «Трех сестер» посмотреть.
– Милости просим! Как раз послезавтра спектакль…
– Ваш Вершинин – удивительный! – искренне восхитился Гиляровский.
Но вновь воцарилась тишина. Настроение было как-то нарушено. Только Гречанинов одним пальцем наигрывал какую-то мелодию да, заскрежетав, зашумев колесами, начали отбивать время громадные напольные часы.
4
Казалось, вечер распался, разладился окончательно. Однако находчивая Мария Петровна напомнила о юбилее любимого в артистической среде петербургского ресторана «Вена» – радушного приюта артистов, писателей, художников.
– Виктор Андреевич преподнес владельцу «Вены» Соколову его портрет, – молвил, воскресая, Станиславский.
Симов, изрядно захмелевший, застенчиво отмахнулся:
– Что – я! Ему картины дарили прекрасные мастера – Репин, Зарубин, Поленов, Клевер…
– Ну, не скромничайте, – проворковал Станиславский. – Ваши декорации в Художественном просто чудо!
– Оформление «На дне» – подлинный шедевр! – воскликнул Москвин. – Ведь все мы за впечатлениями тогда ходили в поход в хитровские ночлежки! Дядя Гиляй организовал этот спуск в преисподнюю.
Станиславский улыбнулся:
– И еще от гибели спас. Виктор Андреевич, расскажите, как нас хотели убить.
Симов, без удовольствия вспоминавший о давней истории, замахал руками:
– Сто лет прошло, забылось изрядно… Пусть Владимир Алексеевич расскажет, – кивнул Симов на стоявшего у рояля Гиляровского.
– Согласен, но лишь в дуэте с Константином Сергеевичем. Вы начинайте, я продолжу.
– Прекрасно! – неожиданно согласился Станиславский. – Восемнадцатого декабря девятьсот второго года на сцене Художественного играли мы премьеру «На дне».
– Триумфально играли! – бросила реплику Книппер.
– Может быть, но суть в другом. Еще шли только репетиции, Владимир Алексеевич однажды пришел на репетицию и возглашает: «Господа артисты! Живого восприятия ради айда на знаменитую Хитровку, обиталище воров, бандитов и проституток!»
И вот отправились мы к Яузе, на Солянку. Дело шло к вечеру, спускаемся вниз. Ощущение – словно погружаешься в гнилую шевелящуюся яму.
– Да, это целое царство, – добавил Гиляровский. – Царство злых духов. Тут и торговки объедками, и трактиры, и нищие перемешались с барышниками, скупщики краденого с убийцами и беглыми каторжниками.
Станиславский напомнил:
– Мы попали в эти трущобы, когда там шла облава. Искали беглых убийц. А эти беглые, как выяснилось позже, охотились на нас…
– «Хорошо прикинутых фраеров», – уточнил Гиляровский. – Еще накануне, в воскресенье под вечер, я ходил на Хитровку. Отыскал дом Степанова, поднялся на второй этаж в квартиру номер шесть. Толкнул ногой дверь. В лицо шибанул дымный смрад. Вдоль стен – сплошные нары. Люди валялись и на нарах, и под ними, прямо на грязном, заплеванном полу. Кругом – шум, гам, ругань, хохот, пение, озорные крики. Я здесь бывал несколькими годами раньше. Тогда здесь жили грамотные люди. Они зарабатывали себе на кусок хлеба переписыванием театральных ролей.
Вот и теперь я встретил двух знакомцев. Объяснил, что завтра со мной придет сам Станиславский с несколькими актерами и художниками.
На другой день вся наша компания появилась в этой преисподней. Мы дали пять рублей на водку и колбасу. Радость хозяев была неописуемой. Начали пир.
Босяки нас спрашивали: «Почто вас сюда занесло?» Мы отвечали, что хотим поближе, своими глазами увидать ночлежную жизнь. Нужно нам это для новой пьесы Горького.
«Надо же! – изумились босяки. – Только что в нас интересного? Чего такую рвань на сцену тащить?»
Выпили водки. Наши персонажи размечтались: «Вот когда выберемся отсюда, когда опять сделаемся людьми…»
Наш дорогой Симов, как и сегодня, усердно делал зарисовки. Позже они очень пригодились. Спектакль был оформлен точно под эту трущобу.
Гуляем вовсю. Хозяева от водки багровеют все больше. Беседа делается весьма громкой. Какой-то оборванец орет на Симова: «Нешто это мой потрет? Пачиму у мене одна щека черная? Где она у мене такая? Где? Гляди!»
Голоса слились в споре. А тут я от своего знакомца хитровца получаю секретную информацию: убийцы, бежавшие с каторги, готовятся нас грабить и «мочить». Для них нож в спину воткнуть – дело плевое.
– Тайной владели только вы, Владимир Алексеевич! – с восхищением воскликнул Станиславский.
– На меня бандюга с бутылкой бросился, кличка у него выразительная – Лошадь, – проговорил Симов.
– Спасибо эрудиции Владимира Алексеевича! – улыбнулся Станиславский. – В адрес бандитов, уже нас окруживших, Гиляровский своим громоподобным голосом гаркнул пятиэтажную брань. Ее сложная конструкция ошеломила ночлежников. Они так и присели от восторга чувств и эстетического удовлетворения. Владимира Алексеевича и прежде здесь уважали. Гениальное ругательство увеличило его славу, а нам спасло жизнь.
– Ну нет, жизнь Симову сберег некий блудный сын предводителя дворянства, угодивший в трущобу. Это был громадный и очень сильный человек. Он перехватил руку с бутылкой.
– Одним словом, вы были спасены на благо и процветание российской культуры! – не без легкого ехидства заметил Шмелев.
Эта реплика развеселила гостей, подогрела. Принесли еще шампанского.
– Вот уж точно, как в мирное время, – сказал Бунин сидевшему рядом Шмелеву.
– Пир во время чумы! – негромко отозвался тот.
Станиславский, заканчивая воспоминания, с удовольствием потер свои большие мягкие руки:
– Да, спектакль «На дне» имел потрясающий успех. Вызывали без конца – режиссеров, актеров, художника.
– Аплодисменты были громовые, – добавила Книппер. – И море цветов! Помните, Константин Сергеевич, вас и Качалова зрители порывались нести на руках.
– Но и вы, Ольга Леонардовна, превосходно сыграли Настю, – ответил Станиславский.
– Ах, какой был Барон в исполнении Качалова! – с восторгом продолжала Книппер.
Москвин поднял бокал шампанского:
– Выпьем, друзья, за первых исполнителей пьесы Горького, за тех, кто вписал славные страницы в историю Художественного театра, – за Лужского, Вишневского, Бурджалова, нашего скромного Симова. И за большого друга нашего театра – Алексея Максимовича, за всех!
Пирующие с чувством осушали бокалы, говорили друг другу лестные слова, обнимались, с восторгом целовались – чисто по-русски.
5
Бунин с легкой скептической улыбкой усмехнулся:
– Да, за Алексея Максимовича выпить следует. Особенно за его дружбу с Лениным. Кристальный человек! И на той давней премьере он вел себя отменно. Всем памятно, как на требования публики – «Автора!» – Горький небрежной походкой вышел к рампе. В зубах он держал дымящуюся папироску. Зрителям не поклонился. Из зала раздались свист и шиканье. И поделом! Людей надо уважать.
– Ну, Иван Алексеевич, это вы лишнее… – вступился Станиславский. – У Горького эта неловкость получилась от смущения, от неопытности…
– Ах, извините, упустил из виду, что этот воспеватель российской рвани отличается застенчивостью непорочной институтки. А история с Ермоловой? Тоже от неуместной стеснительности?
– Ну и от недостатка воспитания, – вздохнул Станиславский.
Бунин поднялся со стула, уперся взором синих глаз в мэтра:
– В Ялте, на одном из людных вечеров, я видел, как сама Ермолова – великая Ермолова и уже старая в ту пору! – поднялась на сцену к Горькому. Она преподнесла ему чудесный подарок – портсигар из китового уса. Горький, не обращая на нее внимания, мял в пепельнице папироску. Он даже не взглянул на актрису. Ермолова смутилась, растерялась. На глаза у нее навернулись слезы:
– Я хотела выразить вам, Алексей Максимович, от всего сердца… Вот я… вам…
Горький по привычке дернул головой назад, отбрасывая со лба длинные волосы, стриженные в скобку, густо проворчал, словно про себя, стих из Ветхого Завета:
– «Доколе же ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»
И он, всем своим видом показывая равнодушное презрение к знакам внимания, засунул по-толстовски пальцы за кавказский ремешок с серебряным набором, который перетягивал его темную блузу. Вот вам и «великий буревестник»! Накликал он со сворой своих эпигонов, разных Андреевых и Скитальцев, бурю на Россию…
Все надолго замолчали. Слова Бунина были справедливы. Наконец Коненков примиряюще произнес:
– Горький с Лениным вроде теперь поссорились.
– Теперь-то Алексей Максимович понял, чем перевороты кончаются, – сердито сказал Шмелев.
– Нынче он вовсю клеймит «кровавые преступления большевизма», – усмехнулся Алексеев, расправляясь с громадным омаром. – Понятливую девку учить недолго.
– Пошло дело на лад, и сам тому не рад, – не удержался, вставил Бунин.
Станиславский замахал руками:
– Господа, господа! Прошлого не вернешь. Надо приспосабливаться к обстоятельствам. Предлагаю тост за Учредительное собрание! Ждать осталось меньше суток.
– И так все ясно! – уверенно сказал Москвин. – Большинство населения России отдали голоса за партию эсеров…
– Так что править Россией будет партия, провозгласившая своей политикой террор? – воскликнул Коненков.
– Все они, «идейные борцы», террористы, – буркнул Иван Алексеевич.
Станиславский постучал ножом по бокалу, требовательно повторил:
– Господа, я уже предложил выпить за Учредительное собрание!
– Ну, если на посошок! – согласился Шмелев. – Счастья вам, Константин Сергеевич.
– Спасибо! Но времена грядут страшные. Послезавтра, перед спектаклем, даже собираем труппу. Тема собрания – «О переустройстве театрального дела в связи с тяжелой и ненормальной жизнью». До чего дожили!
Гости потянулись к выходу. Лакей Василий, шаркая по паркету, поднес Бунину пальто.
– Почему мне, дорогой Фирс? – наклонился к лицу Василия Бунин.
– Ты, золото, человек необычный! – важно и громко ответил слуга, но от чаевых не отказался.
6
Шмелев вызвался отвезти Бунина на Поварскую: – Мои кони – звери!
Путь ближний, дорога наезжена. Кони под рукой опытного кучера неслись птицей. И все же седоки успели немного поговорить.
– Станиславский очень напуган, – сказал Бунин. – Чует сердце, нас ждет нечто ужасное. А кругом поразительное: почти все до идиотизма жизнерадостны. Кого ни встретишь, сияют благодушием, улыбаются. С ума, что ли, посходили?
– Завтра поворотный день, – медленно произнес Шмелев. – Может судьбу на десятилетия определить. Куда весы качнут… А вы, Иван Алексеевич, мой должник.
– ?
– Я у вас раз пять гостевал, а вы у меня дома ни разу не были. Приезжайте завтра, покажу старинные рукописные книги. Попьем чайку, посудачим. Я живу на Малой Полянке, угловой дом с Петровским переулком – номер семь, телефон – 464-81.
Они пожали друг другу руки.
* * *
Впервые за последние дни пошел снег. Крупные снежинки медленно падали в безветренном воздухе. Кругом царила глубокая тишина. На первом этаже зеленовато светились окна: Вера ждала мужа.
Шмелев вдруг произнес, словно высказал заветное:
– Революция взбаламутила государство, поднялась со дна всякая нечисть. По вкусу им пришелся лозунг: «Грабь награбленное». Лодыри остервенело ненавидят талантливых и предприимчивых. Голытьба согласна стать еще беднее, лишь бы не было богатых. Их мечта – все вокруг нищие.
Бунин вздохнул:
– Да-с! Это мне анекдот напомнило, который рассказал Аверченко. Вытащил старик золотую рыбку, а та взмолилась: «Отпусти меня, старче! Я сделаю все, что ты захочешь. Но только помни: твоему соседу будет в два раза больше». Старик тут же наказал: «Сделай так, чтоб у меня глаз вытек!»
Собеседники немного развеселились. Где-то часы пробили полночь.
Для России начался новый день – роковой.