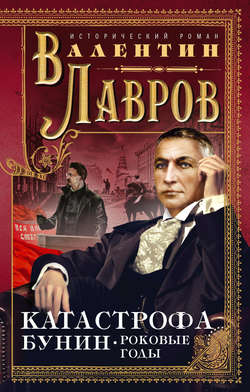Читать книгу Катастрофа. Бунин. Роковые годы - Валентин Лавров - Страница 17
Часть первая
Крушение империи
Главный фронт – внутренний!
Оглавление1
Десятого марта 1918 года, в темный весенний день, Бунин записал в дневник слова, которые следует запомнить: «Люди спасаются только слабостью своих способностей, – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.
Толстой сказал про себя однажды:
– Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других…
Есть и у меня эта беда».
И если мы помянули Толстого, то невольно просятся на бумагу его мысли из «Воскресения»: «Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди – большие, взрослые люди – не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, – красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».
Сбившиеся в кучку политики, назвавшие себя нелепыми словами «большевики», «меньшевики», «кадеты» и «эсеры», подвергаясь порой смертельной опасности, обрекаясь на тюрьмы и каторги, принося боль близким и дальним, внося в общество разлад и смуту, попирая законы божеские и человеческие, рвались к высшей, вполне царской власти.
И вот когда некоторые из них эту власть путем хитрости, вероломства и жестокости наконец получили, то использовали ее для того, чтобы мучить себя и с еще большей ожесточенностью – других.
* * *
С наступлением весенних дней Бунин все чаще стал выходить на улицу. Прежде богатый и вечно праздничный город, сиявший зеркальными вывесками, ломившимися от изобилия витринами и прилавками магазинов, веселый от легкого бега колясок или саней, теперь, после зимнего правления большевиков, стал похож на голодную и грязную нищенку.
До октября семнадцатого года Москва повсюду радовала глаз строительством новых зданий. Теперь жизнь здесь замерла. Леса и стены быстро разбирались населением на разные нужды. Уносили все, что можно было унести. Новостройки стояли жуткими и непривычными для глаз скелетами. Словно время обратилось вспять.
Все палисадники, изгороди и заборы тоже унесли на топливо. По этой причине обнажились чудные московские дворики и старинные особняки. Из них ушла прежняя роскошная жизнь. Они стояли обшарпанные, с выбитыми стеклами, засыпанные за зиму снегом. Сугробы снега навалились по дворам и по тротуарам, которые теперь никто не убирал.
Порой взгляд Бунина останавливался на крепких, поддерживавшихся в хорошем состоянии зданиях. И вот эти лучшие дома непременно занимались советскими учреждениями. Возле входных дверей были укреплены новодельные вывески с головоломными названиями: ВОНХ, НКСО, НКПС, РКИРКК, МОСНКП…
Приходила толпа оборванных совслужащих одного из этих ребусов, обдирала штоф со стен и кресел, сжигала в печах антикварную мебель, картины, бумаги, загаживала грязью паркетные полы и, приведя здание в полную негодность, бросала его и переходила в другое. Только полоскались по ветру выцветшие тряпки знамен и лозунгов.
* * *
Жители были вполне достойны своего города: изможденные, угрюмые, голодные и несчастные, подавленные нуждой и страхом; мужчины порой в дамских шубах, подвязанных веревками, в рваных ботинках, ботах с чужой ноги, в неуклюжих валенках и самодельных варежках, с ранцами, с мешками за спиной. Трамваи с висящими на подножках людскими гроздьями подходили к остановкам, где толпились, ругались, толкались часами ожидающие своей очереди пассажиры. Длинные темные фигуры закутанных во что попало женщин мерзли в хвостах у продовольственных магазинов за скудной подачкой очередного пайка.
И все недоумевали: как и по какой причине произошло такое страшное превращение? Винили царя, евреев, Государственную думу, смутьянов-революционеров, но никто не желал спросить: почему более чем стомиллионный народ кучка аферистов сумела с такой легкостью превратить в запуганных рабов?
Москва была в первой стадии «интернационала» – старый мир рухнул до основания. «Новый» еще не начинался. Выполнялась основная часть программы – люди воспитывались голодом и холодом, нивелировались во всеобщее братство нищих и покорных граждан будущего социалистического государства.
2
Академик Бунин не был исключением из числа «нивелируемых». Он испытывался холодом и голодом. Твердо решив перебраться в Одессу, он записал в дневнике: «Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни – физически».
В доме у Бунина еще зимой перестало работать центральное отопление. Он ложился спать в промозглую постель, не снимая с себя халата, надев теплые шерстяные носки, натянув на голову меховую шапку.
Приятель кухарки притащил новоизобретенный аппарат – «буржуйку». Это была маленькая квадратная печурка, сделанная из толстого листового железа, с длинной трубой коленом, которую выпустили в форточку. Под печурку положили лист кровельного железа – чтоб не загорелся паркет.
Бунин с интересом и надеждой взглянул на «буржуйку»:
– Почему такое название? Это нарочно для бывших буржуев? Ну что ж, попробуем…
Он собрал листы использованных рукописей, набил ими печку, сверху положил ножки от разбитой табуретки, полил слегка керосином… и чиркнул спичкой.
Все это он поджег.
Вспыхнул огонь, повалил густой едкий дым – в комнату.
Бунин кашлял, махал руками, выскочил в коридор. На помощь пришла опытная кухарка.
– Барин, это не книжки сочинять, тут головой надо думать. Ветер дым в трубу гонит. Надо топить умеючи!
И действительно, у кухарки дым пошел куда надо, печка скоро накалилась. Бунин неловко дотронулся до нее и сильно обжег руку. Он ругал печку, большевиков, революцию и даже их императорское величество Николая Александровича, который допустил и революцию, и большевиков.
Но помещение нагрелось. Бунин снял пальто, сразу повеселел и с удовольствием произнес:
– Час в добре пробудешь – все горе забудешь!
Но «буржуйка» оказалась удивительно прожорливым чудовищем. Ее ненасытное чрево моментально поглощало бумаги, стулья, платяные шкафы, доски от изгородей.
Вера выходила на улицу с саночками, пытаясь найти и привезти что-нибудь сгораемое. Но такими охотниками Москва полнилась. И все же однажды сказочно повезло. Против андреевского памятника – косо взирающего Гоголя она увидала почти целый телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами. Найди мешок с деньгами, Вера обрадовалась бы не больше. Вся взмокнув, извозив пальто, она все же приволокла бывшую телеграфную принадлежность на Поварскую.
Бунин так и ахнул, расцеловал жену. Два дня «буржуйка» весело трещала, накалялась, распространяя вокруг себя тепло, дым и надежды.
* * *
Оставалась другая проблема – голод. Праздник у Станиславского вспоминался как сладостный сон. К весне в городе почти нечего стало есть. Москва мерзла, голодала, тощала, болела, вымирала. На улице то и дело попадались дроги с бедным гробом, за которым печально брели близкие покойнику люди.
Однажды Бунин вместе с женою припозднился у Юлия. Возвращались по освещенным призрачным лунным светом улицам. Бандитов развелось больше, чем на постоялом дворе тараканов. За любым углом могла поджидать неприятная встреча. Бунин на всякий случай носил с некоторых пор в кармане револьвер. Это его успокаивало, хотя чувство страха ему не было свойственно. В трудные минуты он все чаще испытывал браваду, передавшуюся ему, видать, от отца, воевавшего на Севастопольских редутах. Это чувство горячности и веселого азарта вообще было свойственно старому русскому офицерству.
Вдруг послышался скрип полозьев. Навстречу Буниным тяжело двигались влекомые битюгами розвальни. На них было что-то навалено горой.
Когда розвальни приблизились, Бунин испытал ужас: из-под накинутого на кладь рваного брезента торчали голые ноги. Кто были эти несчастные?
Люди умирали тысячами от тифа и голода. Очереди на гробы были так же длинны, как за хлебом. Только одного было вдоволь – трупов в анатомическом театре.
(Автора эта трагедия коснулась лично: в восемнадцатом году от «испанки» скончалась моя бабушка Ираида Ивановна Михайлова, оставив, по сути дела, сиротами пятерых малышек, среди них трехлетнюю Сашу, мою будущую мать.)
Исчезли папиросы. Бунин покупал табак, закручивал его в газетную трубочку и вставлял в желтый мундштук из слоновой кости. Покуривая, он говорил жене:
– Самое страшное, что все мы постепенно перестаем ужасаться творящемуся в мире безумию.
– И слава богу, иначе с ума спятить можно! – мудро замечала Вера.
Вода в водопроводном кране все чаще стала замерзать. В лучшем случае она сочилась по капельке. Чтобы вымыться в ванной, надо было натаскать из уличной колонки воду, подогреть ее на твердо вошедшей в новый быт «буржуйке» и мыться над тазиком.
Бунин чертыхался:
– Чтоб революционерам самим всю жизнь так полоскаться!
Революционерам в конце концов пришлось еще хуже – спасибо Сталину. «Кто посеет ветер, тот пожнет и бурю».
3
Впервые за зиму академик и будущий нобелевский лауреат Бунин отправился на рынок – Смоленский. Своими глазами он увидал, что это такое – советский рынок. В нем, как в зеркале, отразились все те перемены, которые произошли в жизни.
Прежде рынок, заваленный продовольствием и прочим изобилием, был царством крестьян, лавочников и кухарок. Теперь Бунин увидал новый социальный элемент – бывших помещиков, богачей, крупных чиновников. «Недорезанных буржуев» большевики обрекли на голодную смерть – им отказали в снабжении, продовольственные карточки им не полагались. Единственная надежда – продажа вещей, которые еще у них не успели отнять.
* * *
Бывшие статские и тайные советники, герои Шипки и Цусимы, директора и чиновники различных департаментов, управляющие и финансисты, гофмейстеры и музыканты – все, кому повезло пока уцелеть от расправы, – длинными рядами, плечом к плечу, стояли или сидели на чем бог послал и держали перед собой самые различные предметы. Это были картины, книги, часы, носильные вещи, посуда, каминные решетки, гардины, фраки, парадные штиблеты, сюртуки, панталоны, скрипки…
Вдоль рядов, лениво оглядывая товар и продавцов, прохаживались с лоснящимися мордами спекулянты и посредники. Порой они останавливались, брали в руки фрачную пару или старинную, хорошего письма картину, сквозь зубы презрительно торговались, давали десятую часть цены и вальяжной походкой шли дальше.
Бунин живо представил себе этих униженных продавцов такими, какими некоторые из них были до октября семнадцатого года: важными, сановными, везде принимаемыми с почестями и улыбками. Делали они карьеру по разным министерствам и департаментам, исполняли предписания с самого верха, от государя получали ордена, выслугу лет и высокое жалованье. Дома их были богаты и просторны, слуги вышколены и чисто одеты, лошади и коляски изящны и дороги, семьи ездили отдыхать в Ниццу и Карлсбад.
Казалось, ничто и никто не может изменить налаженный веками образ жизни: впереди их ждали награды, новые повышения и чины, а затем большой и заслуженный пенсион. Они честно служили процветанию России, и все эти блага были ими заработаны.
И вот все в одночасье изменилось. Теперь вместо почестей – унижение, вместо богатства – голодное существование. И в любой день, в любой час могут явиться в ту конуру, куда их загнали, люди в кожаных тужурках и с жестким выражением на лицах. Они оторвут их от плачущих жен, детей, внуков и уведут… Навсегда!
Впрочем, вон того сгорбленного старика в дорогой, тонкого сукна военной шинели могут приговорить и к «мягкой» форме наказания – к «условному расстрелу».
Старик, высокий, весь источенный легочной болезнью, с нездоровым румянцем на щеках, постоянно кашляет и сплевывает в платок кровяные сгустки. Зачем тратить революционную пулю, когда царский сатрап и так в тюремной камере быстро загнется?
Ах да, «условный расстрел»! Это интересное большевистское новшество, вполне неслыханное. Царские министры для смягчения карательной системы придумали институт условного осуждения. Зато большевики сообщили, что недавно в городе Жиздра разоблачена «банда контрреволюционеров». Главарь расстрелян, двадцать семь человек «условно приговорены к расстрелу».
Бунин обвел взглядом людей, его окружавших, и невольно подумал: «Господи, да ведь мы все под „условным расстрелом“ ходим. Пребываем в сумеречном состоянии между жизнью и смертью. Чтобы пролетарская пуля продырявила затылок, не надо быть активным борцом против большевиков, достаточно быть просто интеллигентом. Смерть вошла в домашний обиход, стала неотъемлемой частью существования. Ничто не идет в сравнение с нынешними зверствами!»
* * *
Кто-то тронул за плечо Бунина. Перед ним стоял сухонький, чистенький старичок академического вида лет шестидесяти, с седыми усами и традиционной для русской профессуры бородкой клинышком. Это был Алексей Евгеньевич Грузинский, научный сотрудник Румянцевского музея, крупный знаток народного творчества во всех его видах, исследователь жизни великих людей, переводчик, критик и прочая, прочая.
Бунин восхищался его преданностью науке и радовался его дружбе с братом Юлием. Оба они отличались чувством общественного долга, который будет изрядно забыт в последующие десятилетия. Грузинский, как и Юлий, входил в правления всех, кажется, существовавших организаций – «Книгоиздательства писателей», кассы взаимопомощи литераторов и ученых, Общества деятелей периодической печати и литературы, Литературно-художественного кружка, Чеховского общества и… Нет, не перечислить все организации, в каких Грузинский энергично и бескорыстно работал.
– Я сплю по четыре часа в сутки, – с милой улыбкой признался он однажды Бунину. – Даже если бы жизнь продолжалась, скажем, лет пятьсот, и то всех дел не переделать. А тут каких-то семьдесят. Нет, спать долго нельзя. Надо бодрствовать, чтобы работать…
* * *
Грузинский был явно смущен, что его встретили в столь неизящном месте, что брюки забрызганы грязью, что за хилыми академическими плечами грязный мешок с картошкой.
– За картошечку отдал лакированные штиблеты! – извиняющимся тоном пояснил Грузинский. – Жена уже с голоду пухнет.
– Но ведь говорили, что Луначарский и Горький организовали помощь ученым?
– Нет, я к господам большевикам за помощью не пойду, – беззлобно сказал Грузинский. – Скоро весна настанет, буду на питание менять зимние вещи. Если, конечно, прежде большевиков не прогонят.
Помолчали.
– А вы, Иван Алексеевич, обращались за помощью? Вы – академик, близкий человек Горькому. Были близким… – поспешно поправился Грузинский.
Бунин усмехнулся:
– Нет, я русский дворянин и к большевикам с протянутой рукой не пойду. Кстати, только теперь по-настоящему уяснил себе Божью молитву: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Без связи с предыдущим разговором Грузинский сказал:
– Вообще-то я всеми силами избегаю бывать в людных местах. Нет, не потому, что за жизнь боюсь. Я проживу не менее семидесяти лет. Десять лет мне еще надо, чтобы провести текстологическую обработку рукописей Толстого – художественные произведения, дневники, некоторые письма. На людях я стараюсь бывать реже по той причине, что меня пугает изменившееся выражение лиц.
– Я понимаю вас, – искренне сказал Бунин. – Я испытываю то же самое.
Коллеги галантно раскланялись.
– Будем рады видеть вас у себя, – душевно произнес Бунин на прощание.
Сам он уносил с рынка большую селедку – для себя и маленький граненый стаканчик с медом – для жены. Селедка оказалась жирной, нежной и вкусной. Медом же стаканчик был лишь помазан по стенкам, а внутри находился жженый сахар.
– Страшна ты, жизнь! – вздохнул Бунин.
Эту фразу ему теперь предстояло повторять долго – до самого своего конца.
4
Третьего марта 1918 года большевики подписали мир с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. В стране разгоралась Гражданская война. И чтобы не воевать на два фронта, большевистская верхушка предпочла капитуляцию (именно таким было «соглашение»!) перед Германией и ее союзниками. Вожди большевизма сознательно шли на развязывание самой страшной из войн – гражданской. Ибо только победа в ней обеспечивала Ленину и Троцкому власть в России.
Еще 10 февраля 1918 года красный маршал Троцкий, дорвавшийся до небывалой возможности распоряжаться судьбой России и ее народов, заявил на заседании Политической комиссии:
– Мы выходим из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий, противостоящих войскам Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Мы ждем и твердо верим, что другие народы скоро последуют нашему примеру.
Большевики перед лицом измотанного, стоявшего на краю краха неприятеля провели прием, небывалый в истории. Они демобилизовали русскую армию и «вручили русский фронт покровительству германских рабочих». Ленин отдал под власть немцев 55 миллионов людей, тридцать процентов пахотной земли, треть железных дорог. Черчилль сказал: «Ленин лезет на вершину власти по человеческим черепам».
Такая «дипломатия» во все времена называлась изменой родине, за нее ставили к стенке. Но у большевиков она вызывала восторг. Петроградский диктатор Зиновьев воскликнул: «Нашей новой формулой („ни мир, ни война“) мы наносим этому империализму страшный удар».
Когда Ленина спрашивали: «Что же дальше?» – он невозмутимо отвечал:
– Дальше революция в Германии! И мировой пожар…
«Мировой пожар» раздуть, к счастью, не довелось. И в Германии революция тогда произойти не могла. Ленин, дальновидный политический стратег, этого не мог не понимать. Зачем же он капитулировал перед Германией?
В 1927 году в Париже выйдет книга П. Н. Милюкова «Россия на переломе». Говоря о политике большевиков в Бресте, он с горечью писал: «Хочется сказать: мы имеем дело с сумасшедшими. Но не следует спешить с этим суждением. В этом сумасшествии есть метод».
И все же большевики добились одного – привели немцев в изумление. Но, справившись с оным, те без всяких помех стали занимать российские пространства. Более того, в обессиленную Германию пошли эшелоны с русским золотом – шесть миллиардов (!) марок. Ленин расплачивался с долгами.
Что русские люди чувствовали, узнавая такие новости? Вот выдержки из дневника Бунина:
«Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а „просто едут по железной дороге“ – занимать Петербург…»
«В „Известиях“ статья, где „Советы“ сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал».
«В трамвае ад, тучи солдат с мешками – бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.
Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: „Ну, вот немец придет, наведет порядок“».
«Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов…»
«Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.
– Не представляю себе, – говорил А. А. Яблонский, – не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна».
«На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:
– Ну а сколько же именно эти мерзавцы получили?
– Не беспокойтесь, – ответил он с мутной усмешкой, – порядочно…»
Николай Семенович Ангарский-Клестов – старый большевик, член парижской группы «Искра» с 1902 года, выпускал книги Ленина. Погибнет как «враг народа» от рук сотоварищей по большевистской партии в 1943 году.
«Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:
– Вставай, подымайся, рабочий народ!
Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.
Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: Cave furem. На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого клейма все видно».
«Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая – то интернационал, то „русский национальный подъем“».
Тут мой герой не прав: Ильич всегда искренне не любил русский народ и российский патриотизм. Открыв границу немцам, он мстил (неизвестно, за что?) этому народу и отрабатывал миллионы, которые его привели к власти.
5
К Бунину заглянул на огонек Грузинский.
Тихий, спокойный, словно струящий из себя внутренний свет, он застенчиво улыбнулся:
– Я хочу сделать сегодня маленький литературный вечер.
Он не спеша полез в свой черной кожи портфель с монограммой («Наверно, к юбилею получил!» – решил Бунин). Оттуда достал папку, развязал ее и с непринужденной грацией извлек рукопись самого…
Бунин готов был протереть глаза.
– Нет, не может быть! – проговорил он, приближая глаза к рукописи и с радостью узнавая почерк столь дорогого для него человека. – Ведь это рука Льва Николаевича!
– Да, это неопубликованные фрагменты «Войны и мира». Я, как вы знаете, работаю с архивом Льва Николаевича, разбираю его. Сейчас исследую тексты романа, устанавливаю постепенность его редакций…
Бунин крикнул:
– Вера, иди сюда! Смотри, какое чудо…
Сам он любовно и самозабвенно глядел на большие листы бумаги, исписанные размашистым, округлым, неудобочитаемым почерком своего кумира.
Накормив ужином Грузинского, они уселись за столом. Алексей Евгеньевич ровным голосом читал неизвестного Толстого.
Бунин зачарованно слушал, сладостно внимал каждому слову. И как всегда после чтения толстовских произведений, он испытывал душевное просветление, умиротворение духа.
* * *
Потом они пили чай, быстро вскипевший на раскаленной «буржуйке».
Грузинский все тем же ровным, тихим голосом, каким читал рукописи «Войны и мира», рассказывал:
– Сейчас в трамвае еду, с солдатом разговорился. В ногу тот ранен, в колене не сгибается. Жалко мне его, сердечного. Была у меня луковица, отдал ему. «Эх, – говорит, – барин, насиделся я без дела, прожился весь. В деревне – кому такой нужен, клосный! Пошел в Совет депутатов. Говорю: как я есть защитник отечества и тяжело раненый, дайте мне какое-никакое место. Для пропитания. Отвечают: места нету! А для пропитания и обмундирования вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек».
– К сожалению, такими честными оказались далеко не все, – печально протянул Бунин. – Особенно изолгалась интеллигенция.
Грузинский согласно закивал:
– А что еще им остается, этим «прогрессивным деятелям» – Луначарскому, Клестову, Гржебину? Ведь они – большевики, всегда были за революцию, готовили ее. Сказали А, говорят Б.
Бунин сжал кулаки, разволновался. Он поднялся, стал расхаживать по комнате. Повернулся к гостю:
– Да что там большевики! Сам беспартийный «серафический» поэт (так называл его Гумилев) Блок прозаически обосновал зверства большевиков и заодно мужицкую жестокость. Читали январский номер журнала «Наш путь»? – Бунин подошел к письменному столу, долго, с ожесточением рылся в ящиках и наконец извлек журнал. – Вот оно самое: «Почему дырявят древний собор? Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью».
Бунин швырнул журнальчик в «буржуйку». Тот моментально вспыхнул, превратился в пепел. Бунин продолжал:
– Неужели Блок ослеп? Неужели теперь он не покраснел за большевистский мир в Брест-Литовске? Неужто не видит, как «отцы революции», боровшиеся под знаменами «всеобщего равенства», ввергли народ в нищету, а сами заняли роскошные дворцы, катаются с любовницами на авто!
– Наверное, – согласно тряхнул головой Грузинский, – тот же Луначарский не «буржуйкой» отапливается.
– Рыба тухнет с головы!
– Иван Алексеевич, а вы слыхали, что Ленин и его правительство собираются переезжать из Питера в Москву?
– Слух упорно ходит. Что ж, то разрушали из пушек древний Кремль, а теперь будут царские палаты занимать. Кто был ничем, тот стал уж всем!
…Это была их последняя встреча. Ровесник Юлия Бунина, Грузинский умрет в Москве через двенадцать лет, в январе тридцатого года. Ему будет семьдесят один год.
Бунин об этой смерти даже не узнает: слишком далеко друг от друга раскидает их жизнь.