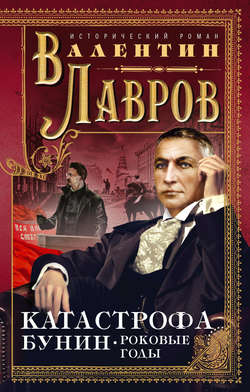Читать книгу Катастрофа. Бунин. Роковые годы - Валентин Лавров - Страница 14
Часть первая
Крушение империи
Убийство на Болотном рынке
Оглавление1
Утром Бунин проснулся рано. Состояние духа – это как ртуть в термометре. Упав до самой низкой отметки, она ниже не опускается. Может только повышаться. Вот и сегодня, воспрянув от ложа, он почувствовал если не душевный подъем, то все же какое-то умиротворение.
Ополоснулся, за неимением другой, ледяной водой, долго растирал свое красивое тело махровым полотенцем. Особенно изящны, как с классической скульптуры, были руки и плечи.
Когда жена принесла ему с кухни завтрак, то Бунин, уже успевший раскрыть том Толстого, воскликнул:
– Послушай: «Бог дал мне все, чего может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего». Это «Маркер». До чего все это приложимо к нашему положению! Бог дал России бесконечные земные просторы, богатые недра, талантливый народ… И вот ныне все затоптано в грязь!
– Это поправится, Ян. Вот сегодня Учредительное…
Бунин взорвался:
– Да что вам всем это собрание! Я, конечно, понимаю, что прикованный к тачке каторжник лелеет в душе надежду на помилование. Большевики приковали к тачке всю Россию, всех нас сделали каторжниками…
– Но Учредительное…
– Что – Учредительное? Ну придут к власти не большевики, а эсеры. Что изменится? Будут те же грабежи и убийства. Народ – не весь, а в худшей своей части – распоясался, озверел. Все эти революционеры сознательно будили его темные инстинкты.
* * *
За окном занималось новое утро. С улицы раздались грубые голоса. Там явно над чем-то потешались. Потом тишину раннего утра разрезал выстрел, другой. И все это сопровождалось птичьим клекотом и диким, грубым хохотом осипших глоток.
Бунин осторожно выглянул в окно. Несколько пехотных солдат в серых грязных шинелях стреляли в ворон. Мертвые птицы валялись под деревом. Одна из ворон, недобитая, отчаянно крутилась на снегу, волоча за собой кишки и беззвучно широко раскрывая клюв.
Солдат с рожей, обросшей рыжей щетиной, подошел к птице и с садистским сладострастием наступил грязным сапогом ей на голову, несколько раз повертев ногой и вдавливая в снег.
Вдруг он разглядел Бунина. Словно давнему знакомому, он улыбнулся безобразным беззубым ртом, затем вынул из кармана револьвер. Продолжая щериться, навел дуло на Бунина. Грянул выстрел. Бунин не отпрянул, не дрогнул. Солдат корчился от смеха, показывая друзьям, как он пугал вон того буржуя и как в последний момент стрельнул в воздух.
Бунин ушел в спальню, обратился взором к особо чтимой им, намоленной еще его предками иконе с образом Спаса Нерукотворного.
– Господи, вразуми этих заблудших людей… Не ведают, что творят. – Помолчал, выдохнул: – «Скорпии ядовитые», как выражался Иоанн Васильевич.
2
Бунин направился к Шмелеву. Он взял извозчика, лихого парня цыганского вида с веселыми глазами, в громадной бараньей шапке. Дорога от Арбата до Малой Полянки недолгая.
– И-ех, застоялись, шевелись! – Извозчик щелкнул в воздухе кнутом.
Высокие узкие саночки щегольского вида, запряженные парой, понесли Бунина по бульвару. Спустились со Знаменки, въехали на Большой Каменный мост и через минуту катили по Замоскворечью.
«Какое чудное место, – думалось Бунину, – люблю русскую старину и древние обычаи, дошедшие из темных глубин столетий. Вот наша колыбель, вот где скапливались национальные силы! Ведь, поди, уже при Иване Васильевиче за этими могучими стенами из бурого обожженного кирпича быт был крепкий, отцы и деды думали о благе тех потомков, которые лет этак через пятьдесят или сто их дело будут продолжать. Вот и вырос в такой среде Шмелев, в исконной, в старообрядческой. Вот откуда в его книгах столь крепок нерастраченный дух русскости, национальный дух!»
* * *
Из-за угла на набережную вывалилась демонстрация с красными знаменами, с пением «Марсельезы», с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию!» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
По всему мосту и вдоль тротуаров стояли бойцы Красной (или, как еще ее называли, «двадцатирублевой») гвардии. Они молча наблюдали за толпой, готовые в любой момент разогнать ее.
На Кадашевскую набережную со стороны Малой Якиманки тоже выходили колонны демонстрантов: с лозунгами, с пением партийных гимнов. Некоторые зачем-то притащили за собой детей.
– Гуляют, – повернулся к Бунину извозчик, – опохмеляться будут опосля.
Свернули на Малую Полянку. Повсюду толпился народ. Четверо солдат с красными повязками на рукавах наблюдали за выходящим с рынка высоким, офицерской выправки человеком в бурке и темной каракулевой шапке. Был он немолод. На щеке горел глубокий рубец от старой раны. В левой руке он нес хозяйственную сумку.
Один из солдат, видимо старший, в шинели с прожженным рукавом и обвешанный зачем-то гранатами, словно шел в атаку, что-то приказал. Все четверо, расталкивая толпу, ринулись к человеку в бурке.
– Стой, документ! – строго произнес старший.
Человек, с холодным презрением взглянув на солдат, опустил сумку на снег, медленно стянул с рук замшевые перчатки. Он достал желтое портмоне, вынул бумаги и двумя пальцами протянул их солдату.
Тот, раскрыв их, медленно шевелил губами. Толпа молча внимательно следила за этой сценой. Лошадь, широко расставив задние ноги, долго мочилась, брызжа во все стороны и оставляя желтое пятно на умятом снегу.
– Пономаренко! – Старший поманил одного из своих товарищей, тощего и рыжеусого, похожего на недоучившегося семинариста. – Прочти!
– Тут по-немецки!
– Ты немец?! – зарычал солдат, поднося бумаги к самому лицу человека.
Тот отступил назад, запнулся о сумку, поскользнулся и неловко упал на руку.
Это еще больше рассвирепило старшего. Он орал, брызгая слюной и топая сапогами:
– Ты шпион? Германский? Австрийский?
Человек поднялся, вытирая снег с мокрой ладони, и негромко произнес:
– Я русский. А это заграничный паспорт. Там по-французски написано.
Солдат вцепился в бурку человека и с силой дернул ее. Под ней виднелась дорогая офицерская шинель.
– Это что? Товарищи, это царский охфицер!
Со всех сторон бросились зеваки.
– Шпиёна поймали! – весело кричали оборванные мальчишки.
– Ишь, сукин сын, какой гладкий! – с ненавистью проговорила старуха в древнем салопе, вытаращивая безумные выцветшие глаза.
Старший, презрительно глядя на человека, сплюнул ему прямо на сапог и сквозь зубы прошипел:
– Ты куда, шпион, шел?
– Попрошу быть вежливей! – строго сказал человек. – А иду я домой.
– Ах, вежливей! – протянул старший. – Ваше благородие, извиняйте нас, пролетариев, виноватые мы перед вами. – И, резко меняя тон, рявкнул: – Обыскать!
Двое солдат бросились к человеку, запустили руки под бурку. Тот оттолкнул солдат:
– Как смеете? На каком основании?
– Сейчас тебе будут основания…
– Уберите руки!
– Ах, сволочь, ты еще оказывать сопротивление? – налился багровой кровью старший. Гранаты отчаянно болтались у него на поясе. В мгновение ока со злобной решительностью он рванул бурку, повалил офицера на снег. Ловким движением приставив винтовку к его голове, выстрелил.
Офицер растянулся на снегу, руки и ноги его судорожно сокращались. Изо рта пошла кровавая пена. По лицу бугорками быстро бежала кровь, собираясь возле головы небольшой густой лужицей. Из сумки выкатилось несколько луковиц.
– Что же вы делаете, убийцы! – закричал какой-то высокий худой старик.
Толпа, скользя по снегу, бросилась врассыпную.
Бунин, став бледнее полотна, приказал:
– Вези обратно на Поварскую!
Вернувшись домой, он позвонил Шмелеву. Тот вдруг сказал:
– У нас соседа убили на базаре, боевого генерала Семенова. Он сподвижник великого князя Николая Николаевича, бывшего главнокомандующего. Завтра должен был к сыну в Варшаву ехать.
3
Стрелять 5 января начали во многих частях города. Бунин после несчастного путешествия в Замоскворечье ни в этот день, ни в следующий на улицу носа не казал. Целый день трещал телефон. Позвонил Станиславский:
– Мы сегодня отменили репетицию и спектакль. В таких условиях работать нельзя. Но завтра надеемся сыграть «Трех сестер». Будем поздравлять публику с началом работы Учредительного… Не придете? Жаль…
Раза три звонил Юлий, говорил, что на Тверской красногвардейцы в упор застрелили какого-то Ратнера, несшего знамя земских служащих.
– Кого? – ужаснулся Бунин. – Льва Моисеевича, врача с Арбата? Который в доме пятьдесят один жил?
– Нет, говорят, инженер. И еще есть много жертв. Красногвардейцы стреляли в демонстрантов на Театральной площади, на Петровке, на Миусской.
Чуть позже Юлий позвонил еще раз:
– Что творится, уму непостижимо! Слуга Андрей ходил на Сухаревку, хотел свой старый тулуп продать, но попал под обстрел. Сунулся на Сретенку, думал у тетки (живет в Луковом переулке) тулуп оставить, а стрельба и там началась. Убили какого-то величественного, удивительно осанистого старика, похожего на священника, шедшего с внучкой из церкви. Девочка теребила за руку мертвого деда и плакала: «Дедушка, вставай, я боюсь!» Солдаты садят в толпу без всякой нужды, ради забавы, – горько вздохнул Юлий. – Говорят, что разгоняют лишь тех, кто ходит на демонстрации в поддержку Учредительного собрания. Но страдают и случайные прохожие, как этот несчастный старик.
* * *
Неожиданно забежал к Бунину Чириков. Теребя короткую бородку, он с порога нервно затараторил:
– Я потрясен, я уничтожен… Ничего не могу понять! Возвращался сегодня с Николаевского вокзала, ездил Арцыбашева провожать, он в Бологое отправился… И вот пробираюсь через Каланчевку, и вдруг…
– Стреляли?
– Именно! Солдаты палили в демонстрантов. Люди шли мирно, и вот вам… – Он застонал, схватился руками за голову.
Зазвонил телефон. Бунин услыхал голос Телешова:
– Слава богу, у нас на Покровке пока тихо. Сидим дома, на улицу носа не кажем.
Отстояв в церкви обедню, к Бунину пришли супруги Зайцевы. Истово перекрестившись на икону, висевшую в передней, Борис Константинович – очень религиозный человек – только после этого со всеми поздоровался. Обнимая Бунина, глухо произнес:
– Что, брат, времена последние наступают?
Сели обедать, под селедку выпили изрядно водки – с горя.
Прибежал Юлий. Возбужденно проговорил:
– Что же это такое? Большевики войну с народом ведут? Такой жестокости Москва еще не знала со времен Иоанна Васильевича.
Бунин огорченно сказал:
– На моих глазах убили немолодого заслуженного офицера. Теперь в безоружных людей стреляют. Ощущение такое, что какие-то преступники стравливают русских людей.
– Какие это преступники, мы отлично знаем, – вставила слово супруга Зайцева – тоже Вера Николаевна.
– Боюсь, что ничего хорошего мы уже не дождемся, – задумчиво произнес Бунин.
* * *
Москва была поражена случившимся. Газета «Наше время» сообщала: «На Страстной площади расстрелян несший знамя молодой человек и несколько манифестантов. Здесь же гражданин Борухин ранен в грудь навылет. На Театральной площади, у театра „Модерн“, залпом из винтовок обстреляна манифестация печатников, направлявшаяся к памятнику первопечатнику Ивану Федорову. Несколько человек манифестантов убито и ранено.
На Неглинном проезде обстреляна манифестация торгово-промышленных служащих. Несколько человек ранено, несколько убито. В числе раненых оказалась девушка-знаменосец, несшая плакат «Да здравствует демократическая республика!».
На Каланчевской площади и в других местах манифестации расстреливались красногвардейцами, разъезжавшими на грузовых автомобилях. В Замоскворечье расстреливались манифестации так же, как и в других местах. Усиленная стрельба была на Сухаревской площади, Сретенке, на Елоховской площади и Немецкой улице».
Бурлили страсти в Моссовете. Мнение фракции меньшевиков, гневно потрясая кулаками, изложил делегат Кипень:
– Демонстрация пятого января подвергалась самому дикому расстрелу, хотя жертвами пали не какие-нибудь «буржуи», а рабочие, представители подлинной демократии, и социалисты. Это показывает, что партия власти, большевики, боялась участия в демонстрациях именно рабочих. Большевики знают, что в рабочих массах происходит перелом настроения, и потому, чтобы предупредить выход рабочих на улицу, были пущены все средства. Заводские комитеты ряда предприятий угрожали увольнением всем, кто пойдет на демонстрацию. Красногвардейцы на некоторых фабриках силой не выпускали рабочих на демонстрацию, отбирая знамена. В ряде случаев в манифестантов стреляли без предупреждения, в упор, хотя последние были безоружны. Манифестанты шли с лозунгом «Да здравствует Учредительное собрание!».
Тактика Ленина была нехитрой, но действенной: террор, террор без жалости и ограничений.