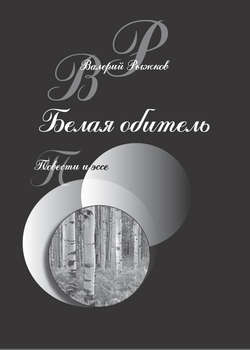Читать книгу Белая обитель - Валерий Рыжков - Страница 8
Узник земли Уц
Глава I Кавалер Аполлон
ОглавлениеЗвонок продребезжал в передней однокомнатной квартиры. В вечернем сумраке комнаты послышались приглушенные голоса двух женщин. Комната служила гостиной – днем, спальней – ночью. Женщина, услышав дверной звонок, встала с кресла и направилась к двери. Другая, дряхлая, укутанная в шерстяной плед, подняла телефонную трубку, но оттуда неслись продолжительные гудки. Она положила трубку, огляделась, прислушалась к тому, о чем говорили в коридоре. Услышала женский удивленный голос и мужской баритон. Ее больше всего раздражал женский голос.
– Иди сюда доченька, – но никто не откликнулся на ее зов, тогда она повторила приказ, несколько смягчив голос, – доченька, кто там пришел.
Ответа опять не последовало. Старуха переспросила еще раз. И в этот момент дочь с молодым человеком вошла в комнату.
– Мама это ко мне пришли.
– Опять французы! Аукционщики. Не отдавай им письма Марии.
– Нет. Мама, да, конечно, но это журналист из «Вечерки».
Она жестом худой руки указала на стройного человека с серыми глазами и черными волосами с проседью у висков. Его походка была уверенная, но тяжеловатая. Он подошел к старушке, которая втянула свои худые плечи под плед, наклонил голову, близоруко прищурил глаза и произнес:
– Добрый вечер!
Старушка повернула свою голову на голос и блаженно улыбнулась в ответ.
– Предложи ему, доченька, присесть сюда, поближе к свету.
– Присаживайтесь! Это кресло для гостей, – произнесла дочь.
Он присел в кресло и осмотрел комнату. Маленькая комната показалась ему просторной. В углу стояли деревянная кровать, сервант с посудой. Три кресла, которые составляли в проекции треугольник в равносторонней отдаленности друг от друга. Письменный стол с двумя книгами с открытыми страницами. Журнальный столик с оплывшим огарком свечи. На трех стенах были развешаны картины, и две картины в тяжелой раме стояли на полу.
Старушка прикрыла глаза. У нее было худое вытянутое с впалыми щеками с дряблой кожей лицо, и только глаза оживляли ее теплым светом, который шел изнутри хрупкого тела.
– Это кто, доченька? – спросила она.
– Это журналист, – громко повторила дочь.
– Это я уже слышала. И хорошо вижу, что это благородный человек. Только ты оденься, доченька, в твое цветное платье.
Журналист, в свете двух ламп, рассмотрел художницу. Она лицом походила на мать и была одета в белый медицинский халат, которые носят операционные сестры. Дочь посмотрела на мать с укоризной. Дочери было лет пятьдесят восемь-шестьдесят.
– У мамы свои причуды, у меня свои. Не обращайте внимания. Она и я больные люди. Халат у меня в память об учебе на медицинских курсах.
– Понимаю. Это ваши картины? Я имею в виду, что вы их написали?
– Вам нравится?
– Я плохо разбираюсь в живописи, но чувствую в этих картинах свет, краски, энергию. Я откомандирован написать о вас очерк. О вашем творчестве, – журналист поймал себя на мысли, что он произносит банальные слова.
– Вчера меня посетили немцы, неделю назад французы. Они просят продать мои картины для аукциона. Предлагают марки, много пфеннигов, франки. Мне они объясняют, что это самая твердая валюта.
– А это настоящее искусство, – заметила старуха.
– Мама моя – критик.
– Я вижу, что очень серьезный, – заметил журналист.
Он стал рассматривать картину, на которой накренился белокаменный собор, как Пизанская башня и Кремль. Столб серого дыма без огня мечеобразно разделял Собор и Кремль, между которыми в бездне находились в ужасных мученических корчах люди.
– Это символизм?
– Ближе к авангарду.
Журналист торопливо написал в блокнот.
– Картина пока не имеет названия, но я называю этот сюжет «Сошествие в ад».
– Вы профессиональный художник, судя по манере письма.
– Я пишу для близких людей, а не на продажу. Я хочу, чтобы эти картины оставались со мной при моей жизни, а что будет потом, то будет без меня. Хотя меня просят продать все это за валюту.
– Нас скоро продадут и купят и снова продадут с потрохами. Тогда на что вы живете?
– На пенсию, беру дежурства ночные в больнице или хосписе для онкологических больных.
– Ухаживаете за раковыми больными! А искусство?
– Это моя вторая жизнь.
– Это только у нас возможно быть добровольным каторжником в искусстве.
– Мне помогает муж, он журналист-кинооператор.
– Он у нее постоянно в командировках, – заметила мать.
– Он документалист и ему приходится разъезжать по стране. Он мне и муж, и друг.
– Она второй раз в браке, – произнесла старуха.
– Мама говорит правду.
Журналист посмотрел на стену и приметил еще одну картину. Это был тихий сад с белыми цветами и множеством бабочек. В центре парил, раскрыв крылья, Аполлон.
Парусники-кавалеры, дневные бабочки, славятся своей красотой, отличающейся большим разнообразием красок. Аполлон достигает в размахе крыльев до девяти сантиметров, передние крылья белые, по краям прозрачные, как стекло, с черными пятнами. Задние крылья белые с двумя красными с белой серединой глазами, окаймленными черным. При нападении Аполлон падает на землю, распахивая крылья с красными пятнами. При этом он скребет ножками по нижней стороне крыльев, воспроизводя угрожающий шипящий звук.
Художница перехватила его взгляд.
– Мама, правда, наш гость – красивый молодой человек, – обратилась она к старухе.
– Да, доченька.
– В него, наверно, влюблены все женщины. Он похож на Аполлона.
– Не болтай лишнего, – строго произнесла старушка.
– Я ему придумала псевдоним, которым он подпишется под моим очерком, Лист де Жур.
– Только не по-французски, – болезненно поморщилась старушка.
– Хорошо, что-нибудь придумаю вологодское.
Журналиста несколько смутила манера разговора.
– Мне как-то неловко, что я подействовал на вас как…
– Как сердцеед, – с вызовом произнесла она. – У моей мамы страх за меня, что меня хотят изнасиловать сексуальные маньяки. Только не обращайте на нее никого внимания, и она успокоится, вы возбудили ее воображение.
– У меня вопрос: какие у вас творческие планы.
– Вы уже перенеслись в будущее время, вы торопитесь, а я вас задерживаю. Простите меня. И планов у меня нет никаких. Одни хлопоты. Ходить по магазинам, покупать что подешевле. Хлопоты – это мои планы.
– Нынче время такое, раньше не знали, в какую сторону покатиться, теперь не знаем, куда катимся. Эх, яблочко! – ударил в ладони журналист.
– Мама знает. Она каждый день и вечер смотрит телеящик и все знает про поле чудес. Я от всего этого далека. Я так устаю.
– Я хотел бы вернуться к моему вопросу. Ваш стиль в искусстве, теперь там всякие Митьки.
– В последнее десятилетие всех потрясал авангардизм, потом поставангардизм.
– Это что-то натюрмортное, когда на столе два разбитых стакана и скатерть непромокшая, – заметил журналист, – или… – он посмотрел мимо этих чудаковатых женщин на картины. Он почувствовал двойственные чувства, кусочки целого. Мир делился надвое: на день и ночь, на черное и белое. Ему пришла в голову дикая мысль, что это есть не что иное, как одна постель для мужа и жены, и вследствие чего происходит совокупление. На этих картинах краски образовывали нечто похожее на вечерний туман, который с охлаждением разрастался только вширь. Это создавало в нем тревогу, но успокаивало их. Он увидел в них противоестественное и их кровать на двоих.
– Или абсурдное, – закончил он.
За окном стемнело до фиолетового блеска тусклого неба.
– Доченька, уже час прошел, предложи гостю чай или кофе, – скрипуче проговорила старушка, облизывая сухие губы.
– Может быть, действительно попьете вместе с нами кофе? Он натуральный из гуманитарной посылки.
У него действительно начались спазмы в животе. Он вежливо отказался, потому что расценил это как окончание разговора. И это было вежливое предложение уйти.
– Спасибо. Я тоже получил гуманитарную посылку. Я с вашего согласия ухожу. Я хотел бы еще раз вас посетить, чтобы показать окончательную редакцию моего очерка. Обсудить некоторые детали.
– Мне будет очень приятно.
Она поправила очки на переносье, которые он впервые заметил за все время их разговора.
– А что это за письма Марии? – почему-то вдруг вспомнил журналист.
– Письма Марии к каторжнику Достоевскому.
– Тому самому Достоевскому Федору Михайловичу?
– Тому самому, но в те годы он был для нее просто Федор Достоевский, ссыльный, почти неизвестный человек.
– И что у него была взаимная любовь…
– Была. А вы что не знаете?
– Откуда? Из школьной программы грамотного русского языка.
– Да-а. А их переписка, к сожалению, находится за семью печатями. Никому это и не нужно.
– Но он же страдал, любил.
– Неужто это не отозвалось в его романах?
– Почти нет. Так бывает, любишь и не скажешь. Я дам вам почитать эту тетрадь. Может, вы проведете, как принято говорить сейчас, журналистское расследование. Но будьте осторожны, не сострадайте с ним, живите своей жизнью. А то будет, как у меня.
– Очень приятно было с вами познакомиться, – он откланялся.
Они подошли к двери, там из трех замков в рабочем состоянии был один. Она неторопливо открыла дверь и пропустила его вперед. Он лицом к лицу прошел мимо нее, так что губы коснулись ее лба. На лестничной площадке он развернулся к ней, сделал вежливый полупоклон и стал торопливо спускаться по лестнице. Этажом ниже он перевел дыхание. Он услышал, как закрылась дверь квартиры.
Она прошла в комнату, погасила свет. В комнате стало тихо и мрачно. В обойной щели заскребся таракан.
Она присела в кресло, в котором сидел журналист.
– Мама, а верно он красивый человек.
– Да, доченька. У него добрая улыбка.
– У него красивые глаза и руки, – продолжала художница, – его пальцы. Я их чувствую на себе.
Художница откинула голову на спинку кресла. Она посмотрела в окно. Лицо ее излучало улыбку.
– Мама, как ты думаешь, он нравится другим женщинам, как и мне?
– В дни моей молодости женщины любили молча и безнадежно.
– Он мне понравился как экзотическое явление природы, которое я могу передать в цвете, как музыкант в гамме.
Старуха пальцем постучала по голове, взяла колоду карт и стала раскладывать пасьянс.
– Не думай о нем. Забудь.
– Что он икать начнет, если я буду о нем думать?
– Не болтай глупости – подай мне лекарство.
Дочь встала… взяла со стола упаковку таблеток и подала ей.
– Я хочу написать картину, – настойчиво произнесла она.
– Спустись на землю. Что ты мне подала? Это не мое.
– Извини, мама, я сейчас найду твое лекарство.
– Пока найдешь, у меня начнется приступ стенокардии, – она сделала несколько судорожных вздохов и задержала дыхание, показывая тем самым, что приступ у нее начался. Дочь засуетилась около больной, исправно играя роль медсестры. Через минуту старушка приоткрыла один глаз и тихо произнесла:
– Мне уже полегче.
– Мама, ты меня не пугай, а то сделаю тебе больной укол, – пригрозила дочь, как медсестра. – Ты у меня самый единственный и дорогой человек.
Она припала к ней и стала целовать ее руки, голову, волосы, губы и снова ее руки. Старушка прикрыла глаза и погрузилась в дремоту, а дочь обняла ее руками, как кора ствол. По ее рукам обильно текли слезы, как березовый сок в мае.
Был вечер. За окном стояли голые деревья с набухающими почками. Маслянистый свет от уличного фонаря расползался по асфальту.
Журналист нес папку с письмами и тетрадью, на которой мелким почерком написано «Книга: Узника земли Уц». Потом, войдя в дом, где было тепло и тихо, ему оставалось только раскрыть ее и прочитать, но он отложил ее в сторону, лег на диван и заснул.
«Книга: Узник земли Уц»
Был человек в земле Уц, и был человек непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла…
Весной тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Семипалатинск выехала арестантская повозка.
Семипалатинск тогда представлял собой один из форпостов Российской империи. Город был похож на обычный губернский с восточным колоритом. Он был разделен на две части: русскую и татарскую, как и вся Россия. Караванные пути из Китая, Средней Азии, Сибири, Запада пересекались в этом городе. И вот повозка, проехав через город, остановилась около казарм. Сначала на землю сошел конвоир и кивнул головой арестанту.
– Приехали! – произнес конвоир.
Арестант был худ, тощ, изможден, но глаза светились надеждой. Он легко спрыгнул на землю, размял ноги от долгой езды, стряхнул пыль и пошел под конвоем. Его рассматривали десятки любопытных глаз. Так появился Федор Михайлович в неведомом ему до этого городе.
После четырех лет каторги в Омском остроге Достоевский должен был нести службу рядовым линейного батальона.
В скором времени он свел знакомство с семьей Исаевых. Достоевский из Омска привез Исаеву письмо от Ивана Викентьевича Ждан-Пушкина, инспектора в кадетском корпусе, который был знаком лично с Александром Ивановичем. Первая встреча была в доме Исаевых.
Он был удивлен необычной встрече в далеком провинциальном городишке. Он скорее почувствовал в ней, чем увидел, легкую порывистую, страстную женщину.
Легкий румянец на ее щеках все же выдавал ее смущение. Мужчины приветствовали друг друга. Достоевский вручил рекомендательное письмо Исаеву.
– Моя жена – Мария Дмитриевна Исаева, урожденная Констант, – шутливо представил ее муж Федору Михайловичу, чем очень его удивил.
– Вот как? – протянул Достоевский.
– Да, мой дед француз, но принял подданство в России, оставив в наследство привычки и родной язык.
Они отошли к окну, а муж стал читать письмо.
Мария Дмитриевна и Федор Михайлович остановились у окна.
– Вам не тяжело в этих краях? – спросила она.
– Я человек подневольный, отбываю солдатчину после четырех лет каторги.
– Но Вы тут окружены вниманием, – улыбнулась она ему.
– В Сибири народ гостеприимный. Это несомненно.
– У меня к Вам предложение: не могли бы Вы давать уроки моему сыну? Я хочу, чтобы он пошел по линии военной карьеры.
– Смогу ли я? – удивился неожиданному приглашению Федор Михайлович.
– Я надеюсь на Вас, – не отступала Мария Дмитриевна.
Разговор прервал подошедший к ним Исаев.
– Я могу Вам быть полезен? – спросил Александр Иванович.
– Я прошу Федора Михайловича принять наше предложение, – отозвалась Мария Дмитриевна.
– Ох, эти женщины, а в особенности моя жена. Она неравнодушна к светским манерам.
– Тонкий вкус – это прекрасный тон, – заметил Федор Михайлович.
– Я ее ревную ко всему, – обиженно протянул Александр Иванович.
– Ревность – страсть непростительная, мало того, даже несчастье, – ответил Федор Михайлович – Тогда не ревную, не хочу быть окончательно несчастным. А предложение Марии Дмитриевны примите.
Федор Михайлович в знак согласия кивнул головой.
Они расстались, чтобы в скором времени непременно встретиться.
Федор Михайлович принял предложение Исаевых познакомиться с Пашей. Мальчик был любознательный, но неусидчивый. Многие внешние черты он унаследовал от матери. В комнате они часами вдвоем рассматривали книги, географическую карту. Паша быстро схватывал и запоминал. В часы прихода Федора Михайловича она садилась за вышивание или вязание, с замиранием сердца слушала Федора Михайловича. Ее внимание было всецело поглощено его мыслями, в то же время оживлялся ее ум.
В те минуты, когда Паша убегал погулять на улицу, они оставались одни. Продолжали разговор, который не имел ни начала, ни конца. Федор Михайлович относился к этим беседам внимательно, разговор не иссякал из-за живости ее ума.
Мария Дмитриевна приглашала Федора Михайловича к столу попить чая. За чаем они любили беседовать. Он невольно ощущал ее дыхание, отчетливо видел движение глаз, губ, рук. Может, так и бывает в жизни, что неслучайно соединяются судьбы людей, которые живут ожиданием этой встречи.
В скором времени самые противоречивые мысли стали его мучить. Видеть Марию Дмитриевну стало для него необходимостью.
Он спрашивал себя: «Зачем все это? К чему может привести эта неразумная страсть? Да и вообще, он не имеет никакого права. Ведь у нее муж, сын! И мы никогда не будем вместе!»
Он утешал себя тем, что судьба ниспослала умного друга. В эти дни он задумал начать писать «Записки из мертвого дома». Со всеми своими мыслями он поделился с Марией Дмитриевной.
– Я начал работать над романом о каторге, – как-то сказал он ей.
– О каторге?
– Да-да, – глаза его заблестели, – об этом еще никто не писал. А я пережил самого себя в этом мертвом доме. Я понял себя и Христа. Я понимаю, что я бы не пришел к пониманию жизни вообще, не пройдя через дантов круг.
Сначала надо было спуститься в ад, пройти этот путь, чтобы понять, что такое истина и Христос. Для меня Христос является идеалом. Ведь за что страдал он? За всех близких людей, он хотел принять все несчастья на себя. В этом его учение.
– Но его предал Иуда. Он не согласился с учением Христа.
– Трудно согласиться, – признался Федор Михайлович, – он хотел бы жить среди людей. Жить среди них, выносить муки, чтобы понять человеческую сущность. Найти ответ на самый болезненный и мучительный вопрос: ради чего живем на этом свете. А потом уже шекспировский: быть или не быть. Если бы его не казнили, он указал бы непременно путь для всего человечества.
– Он вернется на землю? – простодушно, немного лукаво спросила она.
– Он нет. Но появится на нашей земле человек, который пройдет через муки ада земного, принесет веру и в веру обратит ближних и укажет путь к истине.
– А во что будет вера?
– Вера в чудо, тайну, в авторитет. Верить, что ничего нет прекраснее, глубже, разумнее, мужественнее, совершеннее Христа и не только нет, но и не может быть?
На этом разговор оборвался. Вошел пьяненький Исаев. Увидев Федора Михайловича, обнял его, слезно заговорил.
– Федор Михайлович, милейший человек, как горько жить на этой земле, как бесчеловечно. И я не могу ничего изменить. Слушай, Федор Михайлович, поехали к цыганам, а? Покутим.
– А как же Мария Дмитриевна? Она ждала Вас.
– Она? А что она? Есть неси, жена, я проголодался. Что она? Она должна знать свое место у печки, – он перешел на шепот, – она поймет. У меня душа болит.
Мария Дмитриевна покорно поставила на стол еду. Исаев сел за стол, но есть не хотел. Он ничего не хотел.
– Милый, – робко произнесла Мария Дмитриевна. Ей было неловко перед Федором Михайловичем, случайным свидетелем домашней сцены, – поешь, ты устал.
Он зло посмотрел на нее и смахнул рукой всю посуду на пол.
– Ешь сама, отравить меня захотела, а? – куражился Исаев.
– Ну что ты, что ты, – в слезах произнесла она, убирая с пола посуду.
Федор Михайлович подскочил, обнял его сзади за плечи и усадил на кровать.
– Не надо, дорогой мой, она-то при чем. Она – женщина. Она свята пред тобой.
– Ах, Федор Михайлович, – вдруг он зарыдал, – мне страшно жить, а еще страшнее умереть.
– Ничего, ничего, душа поболит и перестанет. Пойди, ляг, отдохни, – успокаивал его Федор Михайлович.
– Ты не уходи. Когда ты рядом, душа моя спокойна. Нет, ты святой, ты пережил каторгу и человеком остался, а я прожил скотско-светскую жизнь и в свинью превратился. Нет ничего ужаснее, как жить не в своей среде. Человеку некуда идти. Машенька, друг мой, и ты меня прости. Простите все меня. Простите!
После этих слов он повалился на постель, не раздеваясь, в грязной одежде. Около сонного Исаева хлопотала Мария Дмитриевна. Она сняла с него сапоги, одежду, накрыла одеялом.
Паша незаметно юркнул в свой угол, со страхом затаился, но сон его быстро сморил.
Федор Михайлович порывисто встал, ничего невидящим взглядом простился, кивнул головой и вышел. Осторожно ступая по половицам, сбежал по лестнице вниз и быстро пошел, но не в свою квартиру, а в степь, через татарскую часть города.
«Понимаете ли, – говорил ему голос, – понимаете ли Вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти».
На следующий день он пришел в назначенное время. Позанимался с Пашей. А потом ушел. Так повторялось в другой раз, третий. Он почти не смотрел в ее глаза. Смущенно молчала Мария Дмитриевна.
Был летний вечер. Паша запросился поиграть с ребятами во дворе. Мария Дмитриевна отпустила его. Они остались вдвоем. Он взял ее руку. Она подняла глаза. Губы не могли произнести ни одного слова. Они говорили глазами. Язык у него прилип к нёбу. Молчаливое ожидание затянулось. Нарушив молчание, она пригласила к чаю, убрав свою руку из ладоней Федора Михайловича.