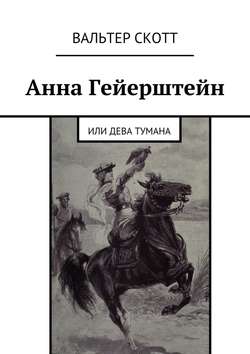Читать книгу Анна Гейерштейн. Или Дева Тумана - Вальтер Скотт - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава IX
ОглавлениеФрансиско. Желаю доброй ночи вам.
Марцелл. До свидания, солдат.
Кто сменил тебя?
Франсиско. Ночи доброй вам.
Бернардо занял мое место.
У. Шекспир, «Гамлет»
ПРЕЖДЕ путешественники наши должны были перебраться через ров, и вскоре они заметили tete-de-pont,97 на котором возлежал подъемный мост. Впрочем, он давно обвалился, и вместо него, видимо, совсем недавно, были положены еловые бревна, позволившие путникам преодолеть препятствие и достичь главных ворот замка. Здесь ими была обнаружена приотворенная под аркой калитка, допустившая их в сумрачный свод, которым они достигли залы, приготовленной наспех для отдыха путешественников.
Яркий огонь, жадно пожиравший сухие дрова в огромном камине, разведен был давно, поскольку зала, несмотря на ее внушительные размеры, хорошо прогрелась и излучала уют. В конце ее лежала куча дров, достаточная для того, чтобы поддерживать огонь в камине целую неделю. Два-три длинных стола стояли накрытыми для явившихся гостей; а в глаза бросилось несколько больших корзин на них, как оказалось, содержащих всевозможные закуски не требующие подогрева и готовые к немедленному употреблению. Взор славного золотурнского бюргера засиял от созерцания изымаемой из корзин и раскладываемой юношами на столах разнообразной снеди.
– Ну, – воскликнул он, – эти ничтожные базельцы спасли свою репутацию: холодный прием нам вполне заменит теплый ужин.
– Ах, друг! – опечалился Арнольд Бидерман, – отсутствие хозяина лишает вкуса его угощение. Лучше удовольствоваться половиной яблока из радушных рук, чем пировать за хозяйским столом без хозяина.
– Значит нам больше достанется, – заключил знаменосец. – Но речи их зажгли во мне сомнения. Не дурно б выставить охрану в ночь, и даже отрядить патруль бродить вокруг руин. Крепость здесь отменная, оборонять ее нетрудно, хоть тут базельцы не подвели. Однако, мои достойные собратья, давайте вначале мы осмотрим замок, а уж затем выставим охрану и вышлем патрули. – Все согласились с этим предложением. – Тогда за дело, молодые люди: тщательно обшарьте все развалины – они, быть может, не нам одним приютом служат, поскольку мы теперь в соседстве с теми, кто как лис, охотней рыщет ночью в поисках добычи, чураясь мест открытых.
Молодые люди разобрали факелы, что, благо, были приготовлены для гостей в достаточном количестве, и приступили к тщательному обыску древнего замка.
Часть замка была в гораздо большем запустении и сильнее обветшала, чем та, что граждане Базеля приготовили для размещения посольства. Кое-где крыша обвалилась, являя небу в общем и целом безутешную картину.
Слепящий свет факелов, блеск оружия, людские голоса и отзвуки шагов, исходящие от древних стен, спугнули и с шумом изгнали из мрачных укрытий летучих мышей, сов и прочих зловещих тварей, неизменных обитателей заброшенных зданий. Их громкое хлопанье крыльев и полеты по пустым залам поначалу нагнали страху на тех, кто слыша шум, не ведал о его причинах, а после, когда все прояснилось, оглушительный хохот изгнал и его из руин. Скоро юноши обнаружили, что глубокий ров окружает замок со всех сторон, и что внезапное нападение ниоткуда им не грозит, кроме как со стороны главных ворот, которые легко было забаррикадировать и охранять небольшим караулом. Также внимательным осмотром было установлено, что хотя и оставалась вероятность сокрытия среди руин немногих врагов, они не могли представлять хоть какую опасность. Обо всем этом было подробно сообщено знаменосцу, приказавшему Доннерхугелю выбрать по своему усмотрению шесть юношей и встать караулом вне стен замка до первых петухов, когда их их сменит другой, такой же по численности отряд, который будет нести дозор до утренней зари, после чего и к нему явится смена. Сам Рудольф изъявил желание всю ночь напролет стоять на страже, и поскольку он был замечателен как своими силой и мужеством, так и строгим отношением к любому порученному ему делу, то за охранение можно было больше не беспокоиться до самого утра. Также условились, что в случае внезапного нападения звук швейцарского рога подаст сигнал для высылки подкрепления страже.
В самом замке тоже решили не пренебрегать осторожностью: страж у главных ворот должен был сменяться каждые два часа, как и двое других, поставленных с противоположной стороны замка, несмотря на то, что ров, казалось, здесь служил ему достаточной защитой.
Приняв все эти меры предосторожности, старцы стали приготавливать себе ночлег в лучшей части залы; а молодые с той же целью скромно принялись устраиваться в противоположном от них углу. Изрядное количество сена и соломы, вне всякого сомнения, оставленное базельцами для устройства ночлега, с помощью плащей и шкур было превращено в превосходные постели, что и было по достоинству оценено неприхотливыми горцами, нередко на войне или охоте довольствующимися гораздо худшим ложем.
Базельцы даже участливо приготовили для Анны Гейерштейн отдельную комнату, более удобную, чем та, что предназначалась для мужчин. Покои эти, вероятно бывшая кладовая, напрямую примыкавшие к большой зале, имели также еще и другой выход, в сторону руин, который, хотя и на скорую руку, был надежно завален большими грубо тесанными камнями, вывалившимися из стен замка: придавленные собственной тяжестью, они выложены были с таким расчетом, чтобы малейшая попытка разобрать кладку, мгновенно была бы услышана не только обитателями этих покоев, но и теми, кто находился в соседней зале, и возможно даже на противоположной ее стороне. Помимо того, в небольшой горнице, так прилежно обустроенной, имелось две грубо сколоченных кровати с соломенными тюфяками; в очаге пылал разведенный заботливой рукой огонь, и даже необходимость воздать должное Богу не была позабыта – небольшое бронзовое распятие висело на стене над столиком, на котором лежал молитвенник. Все это делало комнату уютной и располагающей к отдыху.
Обнаружившие первыми этот уединенный уголок, прибежали к остальным с громкими похвалами гражданам Базеля, проявившим при устройстве ночлега особенную чуткость по отношению к дамам.
Сердце Арнольда Бидермана было тронуто явленной заботой.
– Мы должны пожалеть наших базельских друзей и более на них не сердиться, – сказал он. – Все ж они добрые люди, и страх свой спрятали неглубоко. Это немало говорит в их пользу, милые друзья, ибо никогда так не проявляются истинные качества людей, как в трудную минуту. Анна, любовь моя, ты устала. Располагайся здесь, а Лизетта позаботится о вашем ужине и принесет все, что ты пожелаешь от общего стола.
С этими словами он препроводил племянницу в маленькую спальню, и, самодовольно осмотрев все кругом, пожелал ей доброй ночи; но в лике девы отразилось нечто, казалось, говорящее о невозможности исполнить дядюшкино пожелание. С той самой минуты, как она оставила Швейцарию, угрюмая задумчивость проявилась на ее лице; избегая общения, на все вопросы она отвечала все более короче; облик ее был отмечен потаенной печалью и душевным волнением, что не укрылось от ландмана, который приписал такую перемену их скорой разлуке и тоске по местам детства, навсегда покинутым ею. Лишь только Анна Гейерштейн вошла в комнату, тело ее задрожало, румянец отхлынул с лица, уступив место смертельной бледности; она бессильно опустилась на одну из кроватей, положив локти на колени, а лицо на ладони, словно угнетаемая головной болью или иным каким недугом, чем нуждающаяся в безотлагательном отдохновении после утомительного путешествия. Арнольд, не знаток женских сердец, видя, как страдает его племянница, и, отнеся это на счет упомянутых нами выше причин, приумноженных нервным припадком из-за чрезмерной усталости, слегка пожурил ее за то, что она лишилась самообладания горцев, хотя ветер Швейцарии еще ласкает их ноздри.
– Ты не должна германским дамочкам и фладрским кумушкам позволить помышлять, что жены горцев родят не тех уж дочерей, что в дни былые, иначе нам придется повторить и Земпах, и Лаупен, убеждая императора и этого заносчивого герцога Бургундии, что наши люди имеют все тот же, пращуров, характер. А что до нашей разлуки, то я не сильно переживаю о ней. Брат мой, имперский граф, и вправду достойный звания того, непослушания не терпит, и потому послал он за тобой, чтоб всем явить исполненное право господина. Но я-то знаю: едва он только убедится, что ты по-прежнему подвластна его воле, как тотчас, ублажась, забудет о тебе. Забыть тебя? Увы, несчастное дитя! Иль думаешь, что смочь ему поможешь в его честолюбивых планах, интригах при дворе?.. Нет-нет, ты не послужишь целям графа; должна ты приготовиться, когда вернешься, молочной фермой в Гейерштейне управлять, и быть любимой твоим мужиковатым дядей…
– Была бы божья воля, так лучше мне в сей час там оказаться! – воскликнула несчастная девушка, не в силах более сдерживать свои чувства.
– То невозможно, пока мы не исполним дела порученного нам, – отвечал ландман, поняв ее по-своему. – Приляг, Аннушка, отведай угощения, вина, и от твоей слабости следа не останется, и завтрашнее утро покажется столь же радостным, как и в прежние дни, когда от сна тебя пробуждала свирель.
Но Анна, сославшись на сильную головную боль, отказалась от ужина, вина, и пожелала дяде доброй ночи. Затем девушка попросила Лизетту поужинать вместе со всеми, дабы она могла спокойно заснуть, и умоляла по возвращению не разбудить ее нечаянно. Арнольд Бидерман, поцеловав племянницу, возвратился в покои, где его товарищи, как то велит обычай, терпеливо ожидали, не смея в его отсутствие начать расправу с содержимым базельских корзин, к которому юная поросль, уменьшенная патрулями, питала едва ли не больший интерес, чем седовласцы.
Вечерняя трапеза началась по знаку самого старшего среди депутатов представителя Лесов, осенившего крестным знамением пищу. После чего путешественники принялись за дело с рвением, свидетельствующим, что пережитые ими события благотворно сказались на их аппетите.
Даже ландман, чья умеренность напоминала совершенную трезвенность, той ночью оказался более добродушен и речист, нежели обычно. Его лесной приятель, примерно следуя за ним во всем, ел, пил и безумолку говорил; в то время как других два депутата, придвинувшись к столу, в вине едва не захлебнулись. Старый англичанин, следивший за этой сценой внимательным и обеспокоенным взором, поднимал свой кубок лишь тогда, когда б то было неучтивостью. Артур покинул залу еще до начала ужина, и при этом произошло нечто такое, что обязывает нас немного вернуться во времени вспять.
Артур решил присоединиться к юношам стоявшим на часах у ворот или охраняющим замок с другой стороны, и даже имел некоторую договоренность относительно своего решения с Сигизмундом, третьим сыном ландмана. Но когда он украдкой бросил мимолетный взгляд на Анну, перед тем как осуществить свои намерения, то нашел ее лицо безмерно мрачным, что заставило его забыть обо всем, за исключением смятенных мыслей о всевозможных причинах, вызвавших такие измененья в ней. Невозмутимость гладких бровей, взора, выражающего мысль и доброту, губ, всегда созвучных взгляду и столь же прямых, как те слова, что с них слетали, в час любой готовых явить душевность и открытость лежащих на сердце, – все полностью в образе и взоре, в осанке и манерах, вмиг изменилось в ней, и сотворить могла такое лишь небывалая причина. Усталость могла согнать румянец с лица красавицы; дурнота иль приступ острой боли могли бесцветным сделать ее взгляд, нахмурить брови; но скорбь, глубокая в смятенном взоре из-под опущенных ресниц, и вздрагивающих, пугающих, невидящих очах, порою устремленных к небу, должна иметь исток совсем отличный. Никаким недугом, никакой усталостью невозможно было объяснить поведение ее губ, то трепещущих, то плотно сжатых, как будто бы она была погружена в накатывающее волнами жестокое и страшное, терзающее дух виденье, которое она усильем воли пыталась от себя отринуть. Чтобы случилась такая перемена, сердце девушки должно было впасть в глубочайшую грусть, пережив нечто невероятно дурное.
Опасно юноше взирать на красоту, что возжелала чарами его околдовать – взгляд, другой, и он у ног ее. Но куда опаснее узреть саму невинность, мгновение решает все, и вот он пасть готов пред нею на колени, моля всего о взгляде. Имеются умы, однако, готовые чрез меру сострадать, взглянув на горе юной красоты, спешат они утешить плачущую деву, переживая чувство, которое, как описал поэт, «вполне любви созвучны». Но духу романтичному и безрассудно смелому, присущему средневековью, вид непорочного и милого созданья во власти ужаса и мук без видимой причины, возможно, был еще внушительней, чем красота холодная, иль целомудренная, или скорбящая. Тогда ведь рыцарство не только в благородстве проявлялось, но и на прочих ступенях сословья, что чуть повыше простолюдья. Изумленно юный Филиппсон, моргнуть не смея, смотрел на Анну Гейерштейн, испытывая к ней такое состраданье, такую нежность, что зала шумная за ним, казалось, сгинула, исчезла со всеми находящимися в ней, оставив лишь его с предметом обожанья.
Что же могло сокрушить столь крепкую, столь отважную душу, оберегаемую мечами, быть может, самых храбрых бойцов, что могли б отыскаться в целой Европе, и стенами замка, кои и самой робкой девушке могли бы внушить покой? Верно, случись схватке, шум ее вряд ли ей был бы страшенее, чем рев водных стремнин, которого она не пугалась? «Должна же, – рассудил Артур, – она догадываться, что есть некто, кто из благодарности обязан защитить ее ценою своей жизни. О, Небо! – он взмолился. – Если было бы возможным открыться ей душой, ни красной речью, ни решительным видом, а сердцем о том, на что я готов для нее!»
Пока такие мысли неслись в его голове, Анна подняла свой взор, казалось, погруженный в некое видение; и, обводя им вкруг зала, будто б опасаясь средь лиц ей милых узреть призрак, возвела его на Артура и встретилась с его очами. И тотчас взгляд ее пал долу, а вспыхнувшие ярким румянцем щеки, выдали, как сильно она была смущена своим состоянием, не укрывшимся от глаз посторонних.
Артур, в свой черед, покраснел так же густо, как дева, и поспешил отступить в тень, чтобы скрыть от нее свое замешательство. Но лишь Анна, пылая, в сопровождении дяди удалилась в отведенный ей спальный покой, ему показалось, будто она унесла с собою из залы весь свет, и все погрузилось в мрак склепа. Его глубокие размышления еще были нацелены на ту, кто внушил ему тревогу, когда громкий голос Доннерхугеля вырвал его из небытия:
– Что, дружище, дорогой тебя так измотало, что ты стоя уснул?
– Бог свидетель – нет, Hauptman98, – сказал англичанин, очнувшись от своей задумчивости и величая Рудольфа званием, которым юные стражи единодушно его нарекли. – Он не даст мне заснуть накануне боя.
– Где с петухами будешь ты? – спросил швейцарец.
– Там, благородный Hauptman, где долг или приказ ваш повелит, – ответил Артур. – Но, с вашего позволения, я бы желал сменить на посту Сигизмунда возле моста от полуночи и до рассвета. Он все еще чувствует боль от растянутых мышц, что с ним приключилась, когда он гонялся за серной, и я убедил его немного вздремнуть, не зная лучшего средства вернуть себе силы.
– Он хорошо сделает, приняв твой совет, если будет держать язык за зубами, – понизив голос, сказал Доннерхугель. – Старый ландман не тот человек, чтобы поверить такой чепухе, когда дело касается долга. Тому, кто служит под его началом, надлежит быть выносливым как бык, сильным как медведь, и как железо несгибаемым и равнодушным к состраданиям.
– Я недолго в гостях у ландмана, – так же негромко, отвечал Артур, – но был свидетелем ни раз суровости его устоев.
– Тебе еще что, ты чужеземец, – сказал швейцарец, – старик слишком гостеприимен, чтобы хоть распоряжаться тобой. К тому ж ты волонтер99, и волен выбирать – участвовать тебе в нашей службе иль нет. Потому нужно мне добровольное твое согласье со мною в караул.
– С этого часа я ваш солдат, – сказал Филиппсон. – И чтобы более не тратить время, подтверждаю свое согласие прогуляться с тобой на рассвете, когда меня заменят на часах у моста.
– Да выдюжишь ли ты? – спросил Рудольф.
– Я беру на себя, не более твоего, – сказал Артур. – Ведь ты тоже намерен не спать до утра.
– Истинно так, – ответил Доннерхугель, – но я швейцарец.
– А я англичанин!
– Я вовсе не то имел в виду, что ты подумал, – улыбнулся Рудольф. – Я только хотел сказать, что это дело касается нас гораздо больше, чем тебя.
– Я, конечно, чужой, – возразил Артур, – но пользуюсь вашим гостеприимством, и потому обязан делить с вами все опасности и заботы, пока мы вместе.
– Да будет так, – сказал Рудольф Доннерхугель. – Я закончу мой первый обход к тому часу, когда в замке сменятся караулы, и буду готов начать его повторно в вашей приятной компании.
– По рукам, – сказал англичанин. – А теперь я поспешу на свой пост, поскольку подозреваю, что Сигизмунд уже костит меня за опоздание.
Они бодро зашагали к воротам, где Сигизмунд охотно уступил свое оружие и пост молодому Филиппсону, подтверждая тем самым подозрение, которое его лишь забавляло, что он ленивей всех в семействе ландмана. Рудольф не смог скрыть своего неудовольствия.
– Что бы сказал ландман, – строго спросил он, – если бы увидел, с какой готовностью ты уступил свой пост и оружие иноземцу?
– Он бы сказал, что я поступил правильно, – ничуть не смутившись, отвечал Сигизмунд, – поскольку всегда учит нас ни в чем не отказывать гостю. Артур – гость, и сменил меня на посту по собственной воле, а не по принуждению. Посему, разлюбезный Артур, коль ты решил променять мягкую теплую соломку и сладкий сон на мороз под белою луною, то я против ничего не имею. Но вот, что ты должен. Ты должен останавливать всех, кто попытается войти иль выйти без пароля. Если это случится, поднимай тревогу. Ну, а если то будут наши, ты их пропусти, и не поднимай тревогу, может случиться, что пошлют кого-нибудь с донесением.
– Чума одна тебя от лени избавит! – проворчал Рудольф. – Из всех твоих братьев ты самый ушлый.
– Значит, я парень с головой, – нашелся ленивец. – Послушай, Hauptman, ты ведь сегодня ужинал, не так ли?
– Голос разума, дубина, – ответил бернец, – велит не ходить в лес голодным.
– Если мудро есть перед работой, – рассудил Сигизмунд, – то не глупее выспаться пред ней. – Молвив так, отчаянно зевнув два раза, и выказывая товарищам свой недуг, страж похромал на отдых, вполне счастливый избавленьем от докуки.
– Сколько бездарно растрачиваемой силы в его неуклюжем теле и дремлющем духе, – сказал Рудольф англичанину. – Но пора мне приступить к исполнению собственного долга. Сюда, друзья мои в дозоре!
Бернец сопроводил свои слова свистом, на который из мрака под сводами замка выступили шестеро молодцев, коих он загодя выбрал, и кто, наскоро поужинав, ождали лишь зова его. Один или двое из них шли в сопровождении больших бладхаундов – чистопородных догов100, которых хотя чаще использовали на охоте, но как сторожевые псы они служили не хуже. Один из этих псов, которого вел на поводке юноша, предваряющий движение прочих ярдов на двадцать, принадлежал самому Доннерхугелю и был удивительно ему послушен. Трое его товарищей следовали за ним в непосредственной близости, а двое других чуть поодаль. Один из них нес сигнальный горн бернца, сделанный из рога зубра, в который при нужде надлежало трубить тревогу. Этот небольшой отряд, перейдя через ров, направилась к смежному с замком лесу, который представлял лучшее укрытие, какое можно только представить, для вероятной засады. Луна поднялась высоко и была почти кругла, так что Артур, с возвышенности, на которой стоял замок, мог наблюдать за их медленным и осторожным продвижением в ярком серебряном свете до тех пор, пока они не затерялись в густом лесу.
Когда этот предмет перестал занимать его глаза, мысли юноши в эти одинокие часы вновь обратились к Анне Гейерштейн и странному выражению на ее лице, которое омрачало его прекрасные черты. К тому ее румянцу, который вмиг согнал с лица девы смертельную бледность при встрече их глаз… Был он вызван гневом или робостью… или иным каким чувством, более благосклонным, чем первое или более сокровенным, чем второе? Молодой Филиппсон, который, подобно чосеровскому оруженосцу, был «столь же скромен, как девица»101, с дрожью во всем теле не осмеливался расценивать девичье смущение как проявление к нему какого-либо чувства с ее стороны, чтобы не уподобиться самонадеянному куртуазному повесе, никогда не терзающему себя сомнениями в отношении своих успехов у прекрасного пола. И все-таки никакой красочный восход солнца или закат светила никогда в глазах юноши не был так прекрасен, как тот девичий румянец, что остался в его воспоминаниях. Ни один восторженный мечтатель или чувственный поэт не отыскал бы столько причудливых образов во всем облачном небе, сколько всевозможных признаков благосклонности к нему почудилось Артуру в лике швейцарской девы.
И тут внезапная мысль о бесполезности поиска причин ее смятения вдруг оборвала его мечтанья. Ведь они повстречались, чтобы скоро расстаться навсегда. Она могла лишь остаться прекрасным видением в его памяти, и он в ее запечатлеется, как пилигрим из далекой страны недолгий срок поживший в доме ее дяди, с которым вряд ли могла бы она когда-нибудь увидеться вновь. Мысль, разорвавшая череду романтичных и волнительных грез, была подобна гарпуну вонзенному в спину кита, спящего на водной глади, которую неистовство обратило в бурю. Площадка, где Артур нес караул и которую он мерил быстрыми шагами взад и вперед от края до края, вдруг стала тесной для него. Он стремительно двинулся через мост и, миновав tete-du-pont, очутился на другой стороне рва.
Тут, неподалеку от своего поста, он достаточно долго широкой поступью штурмовал некое пространство, будто поклялся за ночь как можно чаще его пересечь. Это физическое упражнение до некоторой степени остудило его и заставило напомнить самому себе о многих обстоятельствах, кои запрещали ему ввериться чувству к девушке, коей он был бесконечно очарован.
«В моей голове, – замедлив шаги и решительно водрузив на плечо увесистый протазан, думал он, – еще осталось достаточно здравого смысла, чтобы помнить о положении, в котором я нахожусь, и своих обязательствах перед родителем, а также о том бесчестии, что на нее навлеку, добившись любви по-настоящему доброй и милой девушки, с которой я никогда бы не смог связать свою судьбу и которой не смог бы посвятить всю мою жизнь без остатка. Нет, – сказал он себе, – она позабудет меня, а я привыкну думать о ней, как о райском видении, на миг озарившем наступление ночи, в какую жизнь моя превратится до могилы».
Подумав так, он остановился, опершись на оружие. И вдруг слеза, сорвавшись с ресницы, покатилась по его щеке, оставляя на ней горячий след. Но он поборол и эту жалость к себе, как до того обуздал более бурные и неподвластные чувства. Отогнав от себя уныние и душевную слабость, он тотчас воскресил в себе дух и чуткость строгого стража, и усердно понес на часах свою службу, о которой из-за бури разыгравшихся в нем чувств ненадолго забыл. Но каково же было его удивление, когда при свете ночного светила, будто при свете дня, узрел он, как от моста к темному лесу по широкой лунной дорожке движется дух девы Анны.
97
Укрепление перед мостом (фран.).
98
Hauptman – атаман (Примеч. автора).
99
Волонтер – доброволец.
100
Бладхаунд (англ. bloodhound, blood – кровь; и hound – гончая) – древняя порода гончих, охотящихся по кровяному следу, известна со средних веков; славятся самым тонким чутьем среди собак; эта крупная, мощная и умная, пригодная к сыску, собака напоминает догообразных собак, распространенных повсеместно, предками которых считают тибетских догов, первые упоминания о которых относятся к 1121 г. до н.э. – собак ростом с осла и применявшихся для охоты на диких быков. Позднее тибетские доги распространились на западе – греки вывели из них бойцовых собак, так называемых молосских догов, которые участвовали в завоевательных походах древних римлян в Европу, где, следуя за своими хозяевами – легионерами, в результате скрещивания с местными породами получились различные догообразные собаки: бульдоги, тибетские мастифы, немецкие и бордосские доги, далматины, ротвейлеры, сенбернары, ньюфаундленды, кавказская и среднеазиатская овчарки и т.д., но название «дог» сохранилось лишь за немецким догом.
101
Чосер Джефри (1340—1400) – знаменитый английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов».