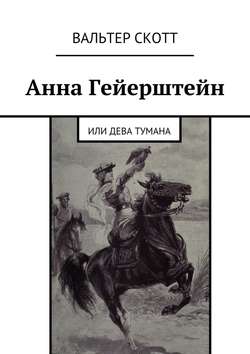Читать книгу Анна Гейерштейн. Или Дева Тумана - Вальтер Скотт - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава V
ОглавлениеИ в счастии я возлюбил
Зеленый дол, мычанье стад,
В трудах-заботах сельский лад.
Верьте, трапезы простой в избе
Не заменят яства мне
В пышных залах и палатах,
Чаша из клена не ведает яда.
Неизвестный поэт
ПРЕДОСТАВИВ юности резвиться возле дома, ландман Унтервальдена и старый англичанин шли рядом, рассуждая о делах Франции, Англии и Бургундии. С теми размышлениями они достигли развалин старого замка Гейерштейн с гордой башней над ними.
– Когда-то это была неприступная крепость, – решил Филиппсон.
– И крепкий род в ней обитал. Графство Гейерштейн одно из древнейших в Гельвеции, и прежние его владельцы носили свое имя с честью. Но всякому земному величию приходит конец, и прежние их слуги попирают ногами остатки того, перед чем ранее шапки ломали и спины гнули в покорстве.
– Там на башне, – сказал купец, – я ясно вижу герб владельцев замка – ястреб на скале; он, верно, дал свое имя древнему роду.
– Да, это их герб, – отвечал Бидерман, – он тоже век свой отслужил.
– В вашем доме шлем с такой же птицей. Вероятно, то победный трофей, как и лук английский, хранящий память о Бушитольцской битве?
– Думаю, праздное любопытство подчас неверно судит, и ожидание забавного рассказа мешает сущности его: в истории об этом шлеме так же мало забавного, как и в истории о Бушитольцском луке. Удивительно, право, что заставляет людей ворошить дела семейные, когда они их вовсе не касаются?! Не хмурьте бровей, мой друг. Все дело в том, что когда в Швейцарии замки многих баронов были разрушены до основания восставшим народом, род Гейерштейн уцелел. Древняя благородная кровь течет и поныне в его владельцах.
– Как мне вас понимать, сэр? – воскликнул Филиппсон. – Разве не вы его владетель?
– А разве, – отвечал Арнольд Бидерман, – крестьянское платье и работа за плугом поменяли мне кровь? В Швейцарии много селян благородных кровей, господин купец, и родов древнейших. Отказавшись от всех своих прав сюзерена, они презрели волчью стаю, и псами верными пасут овец на общей ниве.
– Однако, – недоумевал Филиппсон, который еще кое-как мог помириться с простым одеянием и крестьянской внешностью гостеприимного хозяина, потомка знатного рода, – однако, милостивый государь, где имя родовое ваше – Гейерштейн, когда вы?..
– Бидерман… – улыбнулся ландман. – Арнольд Бидерман готов ради вашего удовольствия обличье важное принять, воздев на свою голову прадедов шлем, или, просто воткнув орлиное перо в мою шапку, и приказать себя величать Арнольдом фон Гейерштейн. Никто этого права меня не лишал. Ну, как вам граф, погоняющий на луг своих коров? Или граф-пахарь и жнец? Вижу, почтенный гость, что я совсем вас с толку сбил. Что ж, я вам поведаю свою историю:
«Мои предки владели леном, который когда-то был куда как обширнее, нежели теперь. Подобно всем прочим владыкам, они не только творили суд и расправу над своими подданными, но и защищали их. Однако, мой дед, Генрих Гейерштейн, встал на сторону Конфедерации против Ингельрама де Куси с его бригандами, о чем я вам уже рассказывал, и даже больше: когда война с австрийцами возобновилась, и многие дворяне встали под знамена императора Леопольда, дед примкнул к противной стороне, сражался в первых рядах союзников, и опытом своим и храбростью помог решительной победе, одержанной швейцарцами при Земпахе, где Леопольд погиб, а вместе с ним и цвет австрийского рыцарства осыпался подобно листве к подножию срубленного дуба. Отец мой, граф Виливальд, следовал по стопам деда отнюдь не из чувства ненависти к австрийским герцогам, но из расклада сил. Как мог он помогал нашему кантону, получил титул гражданина Конфедерации, и добился того, что был избран ландманом Унтервальдена. У него было двое сыновей – я и младший мой брат Альберт. Будучи расчетлив, отец желал закрепить за своим родом и графскую корону, и гражданский титул. Может быть, было это и неблагоразумно (имеем ли мы право осуждать поступки наших предков), но он хотел, чтобы один из его сыновей унаследовал графство Гейерштейн, а другой звание, хотя и менее важное, но, по моему мнению, не менее уважаемое – звание гражданина Унтервальдена – сохранив тем самым в потомстве не только родовое гнездо, но и свое влияние в Союзе. Когда моему брату Альберту исполнилось двенадцать, отец взял нас с собой в путешествие по Германии, где церемониальная пышность и великолепие ослепили моего брата, а меня не тронули. То, что казалось Альберту воплощением земного величия, на мой взгляд, было позолоченной шелухой. Чувствуя приближение смерти, отец объявил свою волю, и мне, как старшему сыну, назначил во владение родовой замок и земли на Рейне. Однако, плодородные земли в Швейцарии, отец выделил брату, рассчитывая на то, что они помогут Альберту стать одним из влиятельнейших граждан Союза, где справное хозяйство уже само по себе богатство. Но брат облился слезами. „Арнольд, – воскликнул он, – станет графом, будет пользоваться честью, и ему будут служить верные вассалы, а я останусь с пастухами?! Нет, батюшка, я в вашей воле, но есть и право свыше. Гейерштейн – феод Империи76, и это позволяет мне прибегнуть к суду Императора. Пусть брат станет графом, но и я оставляю за собой право наследовать этот титул. Я не допущу, чтобы блажь, хотя и родительская, лишила меня достояния всего колена предков!“ Отец мой вскипел. „Прочь, честолюбивый мальчишка, – вскричал он, – доставь моим врагам предлог вломиться в отчий дом, введи в него чужеземца и насладись моим унижением. Прочь с моих глаз, пока не навлек на себя мое вечное проклятие!“ Тогда я встал меж братом и отцом и упросил родителя мне слово молвить. „Мне воздух гор дороже вони городов, – я так сказал, – лазание по горам предпочитаю скачке; и не претит мне знаться с пастухами; на деревенских праздниках счастливым быть мне не мешает родовитость, но чопорность вельмож лишает меня пира! Дозволь, отец, принять мне, как награду, почет и уважение сограждан нашего кантона, этим вы избавите меня от множества пустых хлопот. А брату отдайте графскую корону, когда ему она не тяжела“. Отец задумался и согласился, ведь, так или иначе, сбывались его планы, выношенные в сердце и уме. Альберт стал наследником графской короны; а мне достались во владение поля и луга, где стоит мой дом. Арнольдом Бидерманом уже потом стали звать меня соседи».
– Если имя Бидерман, – сказал с улыбкой Филиппсон, – означает достойного, прямодушного и щедрого человека77, то оно вам по праву дано. И я преклоняюсь перед вашим поступком, хотя сам, будь я на вашем месте, не осмелился на такое. Простите, что оборвал вас невольно, и прошу продолжить ваш рассказ, если только с памятью душа согласна.
«Отец скоро умер, – продолжал Бидерман, – а брат, владея родовыми поместьями в Швабии и Вестфалии, крайне редко навещал замок предков, где всем распоряжался его сенешаль, который так притеснял слуг, что они породил всеобщую ненависть к себе, и если бы не мое близкое присутствие и не мое родство с хозяином замка, то горцы давно бы вытряхнули этого «коршуна» из гнезда точно так, как они поступают с настоящими стервятниками, к коим не питают ни малейшей жалости. Сказать по правде, моего брата, изредка наезжавшего в Гейерштейн, нимало не беспокоила жизнь его подданных. Ему было достаточно глаз и ушей своего жестокого сенешаля Итала Шрекенвальда, моим словам он не внимал. Альберт относился ко мне с благодушием мудреца, полагая меня за наказание божье, какое случается в каждой роду.
Свое презрение к соотечественникам он выказывал тем, что носил на голове символ Австрийского дома – перо павлина, нисколько не обеспокоенный тем обстоятельством, что знак сей ненавидим швейцарцами, и с иных его снимали вместе с головою.
Скоро я женился на Берте – теперь она на Небесах, и ей я обязан шестью крепкими сынами – пятерых вы видели сегодня за столом. Альберт связал себя узами брака с девушкой благородного происхождения из Вестфалии. Их супружеское ложе принесло ему дочь, Анну.
К тому времени разгорелась война между Цюрихом и нашими лесными кантонами, в которой было пролито слишком много крови швейцарцев, ибо братья наши согрешили, позвав на помощь Австрию. Император не заставил себя ждать, пользуясь благоприятной возможностью проучить горцев, и призвал под свои знамена всех, кого только мог. Мой брат не только одним из первых откликнулся на зов императора, но и впустил в Гейерштейн гарнизон австрийцев, с помощью которого Итал Шрекенвальд опустошил все селения вокруг».
– Нелегкий тогда перед вами встал выбор – родная земля или родная кровь, – сказал англичанин.
– Я, не колеблясь, сделал его, – продолжал Бидерман. – Брат мой неотлучно был при императоре, и мне не угрожала встреча с ним в бою. Я встал на защиту земли, которую Шрекенвальд разорял со своими головорезами. Счастье не всегда было на моей стороне. Однажды сенешаль напал, когда я был далеко, сжег мой дом и убил моего младшего сына на отчем пороге… Поля мои были опустошены, стада угнаны… В конце концов, с отрядом горцев я взял приступом родное гнездо. Конфедерация не желала меня лишать его, но возможно ли вернуть свое прошлое; да и как человеку, столько лет прожившему в доме без запоров, охраняемому лишь дворовым псом, запереться от людей, от вольного воздуха, солнца и тепла в тесном замке? С моего согласия совет старейшин постановил разрушить замок, и он был разрушен. И пусть покоится под его руинами все то зло, какое пришлось из-за него пережить мне и моим соотечественникам.
– Скорбная повесть, – признал англичанин. – И простите меня за то, что я сейчас скажу: спаси меня Господь от каких ни на есть добродетелей, способных руку мою поднять на родительский дом. Но, что ж ваш брат?
– Он был, я знаю, взбешен, когда его известили о том, что я овладел замком и разрушил его. Он клялся найти меня на бранном поле и убить своими руками. Мы и впрямь могли бы встретиться под Фрейнбахом, но Господь помешал ему исполнить его клятву, ибо он был ранен в той битве стрелою. Потом я сражался в роковой Монт-Герцельской битве, и под часовней Святого Иакова, где мы образумили наших цюрихских братьев и принудили Австрию заключить с нами мир. По окончании войны, длившейся тринадцать лет, Совет объявил моего брата Альберта изгоем и лишил его швейцарских владений, без вынесения ему заочного смертного приговора из уважения ко мне. Услышав о том, Альберт зло смеялся, но странный случай показал мне в скором времени, что ненависть его ко мне и отчизне ничто в сравнении с его родительской любовью.
– Не ошибусь, – молвил купец, – сказав, что вы имеете в виду эту чистую девушку, вашу племянницу.
– Именно так, – сказал ландман. – Брат пребывал в большой милости у императора, но вдруг, по слухам (вы знаете, как горы доносят их), стало известно, что он навлек на себя его немилость, будучи заподозрен в одном из дворцовых заговоров, что ходят тенями за коронованными особами, и был отлучен от двора. Вскоре после получения этого известия, семь лет тому назад, я, как обычно, возвращался с охоты из-за реки; прошел узкий мост, вступил во внутренний двор замка, который мы только что миновали, – прогуливающиеся старики уже возвращались к дому, – как вдруг, детский голос взмолился… по-немецки: «Дядюшка! Сжальтесь!». Оглядевшись вокруг, я увидел девочку лет десяти, которая робко приблизилась ко мне, покинув свое укрытие в развалинах, и встала на колени у моих ног. «Дядюшка! Спасите меня!», – вскричала она, сложив в мольбе свои маленькие ручки, и мне показалось, что я внушаю ей смертельный ужас. «Если я твой дядя, милая, – спросил я у нее, – отчего ты так меня боишься?» «Потому, что вы главарь свирепых разбойников, которым нравится проливать благородную кровь», – отвечала она, и посмотрела прямо мне в глаза. «Как тебя зовут, малютка, – спросил я, – и кто внушил тебе такое обо мне? Выйди! Покажись! – приказал я ее невидимому спутнику, ибо не сомневался, что он где-то рядом: – Чтобы в очи мне повторить свои непристойные речи! Кто ты?» – «Итал Шрекенвальд», – отвечала девочка, не поняв, к кому я обращаюсь. «Итал Шрекенвальд?!» – повторил я беззвучно, вздрогнув при этом имени, которое я имел столько причин ненавидеть. «Итал Шрекенвальд!» – прозвучало, как эхо, из руин, как голос с того света, и мерзавец, оставив свое убежище, предстал передо мной с тем нахальным видом, какой присущ редчайшим негодяям. Рука моя сжала тяжелую дубинку, утыканную гвоздями… Что мне оставалось делать?
– Уложить его на месте, разбив башку, как глыбу льда! – вскричал англичанин с негодованием, не сдержавшись.
– Этого хотел я более всего на свете… – сказал швейцарец. – …но не смог – он был безоружен, и имел устное послание от моего брата, которое и передал мне с той же наглой ухмылкой.
«Узнай волю своего благородного господина, графа Гейерштейн! – сказал негодяй. – И покорись ей. Шапку долой, ибо моим голосом повелевает тебе твой сюзерен!» «Пред богом и людьми, – сказал я, – нет на мне вины пред братом. А с тебя будет довольно, что я твоей не разобью башки. Говори скорей и убирайся». – «Граф Гейерштейн, – продолжал Шрекенвальд, – будучи войною занят, и за прочими делами, препоручает тебе дочь свою, графиню Анну, удостаивая тебя чести заботиться о ней до тех пор, пока он не пожелает потребовать ее обратно, и назначает ей в содержание доходы со своих земель, тобой присвоенных!» «Итал Шрекенвальд! – отвечал я ему, немного успокоившись. – Мне все равно, говоришь ли ты словами моего брата, или твой подлый язык болтает, но… если Альберт – брат мой, свой долг родительский пока блюсти не может, и дочь свою вручает мне, я беру на себя о ней отцовскую заботу, и не потерпит она ни в чем нужды под моим кровом. Замок Гейерштейн, дом моих предков, или, как видишь, то, что от него осталось по твоей вине, во власти кантона. Анна Гейерштейн, моя племянница, сестра моих детей, и с ними поровну разделит все что имеется у меня. Теперь ты исполнил свое поручение и можешь проваливать, но торопись – кровь моего сына на твоих руках мутит мне рассудок».
Негодяй воспользовался моими словами и исчез, освободив меня от искушения размозжить ему голову, но на прощанье прокричал мне: «Прощай граф Сохи и Бороны, прощай, рыцарь пастухов!»
Так Анна вошла в мой дом, где нашла и родительскую и братскую любовь. Я души в ней не чаю, и люблю как дочь. Я сам учил ее лазать по горам, и она, что козочка, ловчее всех. И умом она скора, и душой добра, и ценить умеет то, что простой горец не заметит вовсе, в чем я вынужден признать истоки благородства. Но так счастливо сливаются они с кротостью и совестливостью, что Аннушку почитают лучшей девушкой в округе, и я не сомневаюсь – если она изберет себе достойного мужа, кантон назначит ей немалое приданое, потому что у нас нет обычая перекладывать на детей вину их родителей.
– А вы, разве вы сами не будете рады обеспечить будущее вашей племянницы, которая и в моих глазах достойна высших похвал; и у меня есть веская причина желать ей счастья, которого она заслуживает не только по праву благородного происхождения, но прежде всего в силу своей добродетели!
– Ах, мой дорогой гость, – вздохнул ландман, – я часто голову о том ломаю. Близкое родство препятствует моему горячему желанию видеть ее замужем за одним из моих сыновей. А этот юноша, что пытается ухаживать за ней, Рудольф Доннерхугель, безусловно, храбр, и уважаем согражданами, но чересчур тщеславен – моей племяннице я не хочу такого мужа. К тому ж он вспыльчив, хотя я верю, сердце у него не злое. Впрочем, все мои переживания на этот счет не имеют никакого значения, потому что Альберт, который за семь лет ни единой весточки Анне не послал, в недавнем письме, адресованном мне, потребовал ее возвращения… Вы, верно, умеете читать по-немецки – в вашем ремесле нельзя без того. Прочтите, вот его послание… Мне не по себе его читать, хотя в нем и намека нет на ту надменность, с какою Итал Шрекенвальд передал мне прежнее послание брата.
И купец прочел следующее:
Графу Арнольду Гейерштейн,
Именуемому также Арнольдом Бидерманом.
Брат! Благодарю тебя за заботу о моей дочери, которую ты принял на себя тогда, когда она нуждалась в защите и нигде не могла ее обрести; и опеку, без которого она терпела б нужду. Теперь же я прошу тебя вернуть ее мне во всей добродетели, приличной женщине высокого звания, и расположенной не к сельскому бытию, но к благородной жизни светских дам. Adieu78.
Я благодарю тебя еще раз за все, и наградил бы, если б мог, но тебе не нужно ничего, что я имею ценного, ибо звания тебе не льстят, и золота тебе дороже твое теплое гнездышко в горах, неведомое бурям.
Твой брат АЛЬБЕРТ ГЕЙЕРШТЕЙН.
– Ниже высказано его пожелание, чтобы вы привезли Анну ко двору герцога бургундского, – закончил чтение англичанин. – Это письмо, достопочтенный хозяин, писал человек, безусловно, гордый, который не желает помнить старые обиды из признательности за оказанную услугу. Речь же его посыльного я нахожу низкой, полной рабского желанья унижаясь унижать других, схожей на лай пса из-за спины хозяина.
– В точности так я воспринял и то и другое, – отвечал Бидерман.
– Но как вы намерены отослать это прелестное создание к отцу, не ведая, в каком он положенье, и в состоянии ли он заботиться о ней?
– Узы, соединяющие родителей с детьми, – отвечал Бидерман убежденно, – святы, и они самые главные из всех человеческих чувств! Лишь неуверенность в ее совершенной безопасности во время пути препятствовала мне исполнить желание моего брата. Но коль решено, что я отправляюсь ко двору Карла с охраной, то беру Анну с собой. Надеясь на встречу с моим братом, которого не видел много лет, я уповаю, что Альберт развеет мои страхи относительно будущности Анны. Возможно, им движет одно лишь желание видеть ее, тогда я стану уговаривать брата оставить ее и дальше на моем попечении. Но, рассказав вам о моих делах семейных несколько больше, чем следует, я полагался на вас, как на человека умудренного жизненным опытом, с тем, чтобы просить вас, милостивый государь, прислушаться со вниманием к тому, что я считаю необходимым еще вам сказать… Кому не известно что юноши и девушки, расположенные друг к другу, за добрыми отношениями, подчас не замечают, как они оборачиваются совсем иными чувствами, которые порой внушают их родителям тревогу. И коль мы готовы отправиться в путешествие вместе, я надеюсь, вы сумеете внушить вашему сыну, что в разговорах с Анной Гейерштейн ему прежде всего следует думать о ее добром имени.
При этих словах купец вспыхнул румянцем.
– Разве накануне не вы сами предложили мне свое общество на время пути, господин ландман? – удивился он. – Если мой сын, и я вдруг стали внушать вам тревогу, мы поедем одни…
– Успокойтесь, мой гость дорогой – я никак не хотел вас обидеть, но мы, невежественные швейцарцы, не в пример образованным чужестранцам, не прячем мыслей за речами, своею прямотой развеивая даже легкую тень возникающих подозрений. Когда я предложил вам ехать со мной, то, по правде сказать, хотя вам как отцу и неприятно это будет услышать, считал вашего сына слишком слабым, чтобы обратить на себя женское внимание. Но вдруг он представился мне совсем в ином свете, какой девушки видят ранее старцев. Он отважен и долгу послушен, коль ради вас смертельно рисковал; натянул бушитольцский лук, что у нас почиталось за подвиг, напомнив об одном из народных преданий, коим так верят простые сердца… Еще ловчей он управляется словами, что привлекает не только юных, но и тех, у кого борода с сединою. И, не будь я ландманом, если он не обладает еще многими, доселе скрытыми талантами… Но судите сами – когда мой брат рассорился со мной из-за того, что я презрел немецкое происхожденье, и выбрал долю пастухов, он, вероятно, весь свой гнев обрушил бы на человека, в чьих жилах нет и капли благородной крови, унизившего себя торговлей, и смеющего надеяться на взаимность чувств с его дочерью. Словом, если б сыну вашему случилось Анну полюбить, ему грозила бы погибель. А теперь, я спрашиваю вас: угодно ехать вам со мной или отправимся мы порознь?
– Как бы там ни было, господин ландман, – отвечал Филиппсон, – скажу лишь, что мое ремесло, так противное вашему брату, заставляет меня держаться собственных планов, кои не помеха ни его планам, и уж тем более ни вашим. На Артура возложено дело, совершенно не дозволяющее ему искать любви девушек в Швейцарии, или в Германии, к какому сословию они ни принадлежали бы. И он слишком послушный сын, чтобы ослушаться моих приказов.
– Что ж, друг мой, – сказал ландман, – тогда, мы отправляемся вместе, и я с удовольствием остаюсь вашим другом, вполне довольный нашей беседой.
Меняя тему разговора, он спросил у купца, прочен ли, по его мнению, союз, заключенный английским королем с герцогом бургундским.
– Мы много слышали, – продолжил швейцарец, – об огромной армии собранной королем Эдуардом79 для возврата английских завоеваний во Франции.
– Совершенно уверен, – сказал Филиппсон, – что англичане горят желанием высадиться во Франции и отвоевать Нормандию, Мэн и Гасконь, принадлежавшие издавна английской короне. Но развратный узурпатор английской короны не будет благословлен Небесами из-за грехов своих. Эдуард, конечно, храбр и не потерпел ни одного поражения на пути к трону, но с тех пор как он взобрался по кровавой лестнице на вершину своего честолюбия, распутство растлило в нем солдата. Да будь единодушная уверенность во всем королевстве в возвращении английской короне богатых владений, потерянных ею из-за междоусобной войны, начатой его же тщеславной фамилией, ничто не заставит Эдуарда покинуть роскошную лондонскую постель с шелковыми простынями и пуховым изголовьем, и возлечь на жестком ложе ратного поля во Франции; сменить томные мелодии лютни, на сигналы походных труб.
– Тем лучше для нас, – сказал Бидерман. – Когда бы Англия и Бургундия сокрушили Францию, как это случалось не раз в давние времена, герцог Карл не заставил бы себя долго ждать, чтоб выломать ворота нашего Союза.
За разговором они незаметно вернулись к лужайке перед домом Арнольда Бидермана, где состязание в силе и ловкости уступили место танцам. Анна Гейерштейн и юный англичанин шли в первой паре, и хотя это было вполне естественно, так как он был гостем, а она представляла хозяйку дома, Бидерман и старый Филиппсон обменялись взглядами, понятными лишь им двоим.
Едва дядя и пожилой гость приблизились, Анна остановила танцы и обратилась к ландману с домашними делами, порученными ей в отсутствие хозяина. Арнольд Бидерман со вниманием выслушал племянницу и кивнул головой, одобряя ее действия.
Вслед за тем все были приглашены к ужину, состоявшему большей частью из превосходной рыбы, что водилась в соседних реках и озерах. Огромная чаша, с так называемым schlaf-trunk80, обошла всех по кругу начиная с хозяина, который отпил из нее большой глоток; затем скромно пригубила Анна, после чего ее поднесли чужеземцам, и, наконец, она была опустошена остальными. Такое воздержание в бражничестве было тогда у швейцарцев, но впоследствии их нравы влиянием более развитых стран подверглись испытанию, жестокому, надо сказать испытанию, какое не проходит бесследно.
После ужина гостей отвели в спальные покои, где отец с сыном улеглись в одной постели, и вскоре дом Арнольда Бидермана охватила тишина.
76
Т. е. номинально входит в состав Священной Римской Империи. Феод – феодальное владение.
77
Может быть, bidard – счастливый (франц.) и mann – муж (нем).
78
Прощайте (фран.).
79
Эдуард IV (1442—1483) – английский король с 1461 (кроме октября 1470 – апреля 1471), первый из династии Йорков. Занял престол в ходе войны Алой и Белой Розы. Укрепляя свою власть, Эдуард IV одинаково безжалостно расправлялся как с Ланкастерами, так и с Йорками.
80
Сонным напитком (нем.).