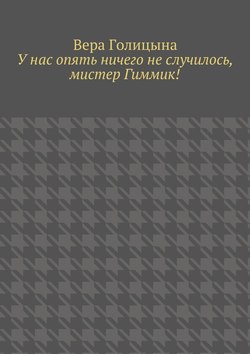Читать книгу У нас опять ничего не случилось, мистер Гиммик! - Вера Голицына - Страница 5
Часть первая. Я исчезаю
Глава 2. Говорить о боли
ОглавлениеЯ уже рассказывала, Мистер Гиммик – это мой внутренний критик. Кто такой внутренний критик, я узнала, когда ходила на один из психологических тренингов. Он длился 3 месяца и был связан с творчеством. Поначалу я думала, что внутренний критик – это мой самый заклятый враг, который заварил всю эту кашу с болезнью и решил меня убить. Просто потому, что он садист и ему так нравится.
Тогда я его представляла в виде высокого худощавого человека с длинным носом и надреснутым голосом. Что-то вроде Корнея Ивановича Чуковского, который иногда превращался в крокодила, готового проглотить меня на месте. Только за то, что я не умылась.
А потом мы с ним подружились. На самом деле он не был убийцей или садистом. Просто очень исполнительный товарищ. Если я хотела себя незаметно убить, он просто искал способ, как это сделать. Если мне хотелось саморазрушений, он предоставлял мне исчерпывающий список способов расколоть себя на куски.
Когда мы с ним подружились, он стал моим управляющим. Ну, вроде тех, что вели дела в русских помещичьих усадьбах. Исполнительный, умный, честный и прямолинейный в своих суждениях. За последние 2 года мы вышли с ним из кучи передряг.
Но странно, что мой внутренний критик – мужчина. Вообще-то он родился из нескольких женских голосов: бабушки, прабабушки и моей мамы. У нас в семье воспитанием детей всегда занимались женщины. А мужчины… искали свой особенный путь, тосковали, устраивали неожиданные марш-броски из Карелии на Алтай, баловали детей и потихоньку (или не потихоньку) спивались.
Образ мистера Гиммика пришел ко мне года 4 назад. Мне тогда приснился странный сон про мрачную сувенирную лавку. Лавка называлась «Сомнительные удовольствия похорон мистера Гиммика». Мой Гиммик всегда с иронией относился к смерти. Поэтому его лавке местные жители не доверяли, но очень любили заезжие туристы. Впрочем, сувенирная лавка – это его хобби. Основное дело – похоронное бюро. Но работает он не с родственниками умерших, а с тяжело больными молодыми людьми и девушками от 25 до 45 лет. Они тяжелее всего мирятся со смертью. Мистер Гиммик помогает им немного театрализовать свой уход и создать иллюзию того, что можно ненадолго задержаться здесь, даже когда ты умрешь. В общем, он устраивает всю эту чепуху, как фильме «PS. Я тебя люблю».
Когда клиент умирает, все идет немного по другому сценарию. Потому что теперь мистер Гиммик работает по другую сторону гроба. Его дело – не навредить скорбящим родственникам и близким покойного. Знаете, люди – такие люди. Даже перед лицом смерти они могут жестоко шалить, как 5-летние дети. Или банально делать гадости. Проблема в том, что сладить с гадостью, которую тебе сделал покойник тяжелее, чем с тем, что могут натворить живые.
Вот такой у меня мистер Гиммик. Ответственный и вдумчивый. Пожалуй, никого лучше в роли внутреннего критика, то есть управляющего, и не представишь…
Гиммик долго злился на меня за неадекватное поведение во время самого длинного приступа. Все же он считал, что «Скорую» необходимо было вызвать. Возможно, он прав. Но, во-первых, у меня не было никакой уверенности, что я действительно получу помощь, а не очередные муки. А, во-вторых, когда человек долго живет в боли, он находится в состоянии измененного сознания. Многие ситуации он просто не может оценивать адекватно. Моё рацио может великолепно работать автономно, даже когда всё тело и чувства цепенеют от страха. И все же, фоновая боль существенно подточила мою способность эффективно действовать в нештатных ситуациях.
Почему так происходит? Когда боль становится фоновой, собственный болевой порог увеличивается и я, например, уже перестала адекватно оценивать свое состояние. Насколько мне было плохо, я смогла понять только тогда, когда боль сняли, а опухшие суставы сдулись почти до своих нормальных размеров. Мне было трудно отвечать на вопросы врачей о том, где болит. Потому что боль стала уже неотъемлемой частью меня, и определить ее локализацию было трудно. Говорила больше по памяти: я примерно помнила, где и что у меня болело, когда все это шло приступообразно, без фонящей боли.
Незаметно наступает момент, когда ты привыкаешь к фоновой боли, но еще не можешь признаться себе в том, что ты сильно болеешь. И тут возникают проблемы с реальной оценкой своих возможностей. Время, которое нужно для выполнения того или иного задания подсчитывается по-старому, по-здоровому. А, между тем, существовение в фоновой боли вызывает большую усталость. Времени на восстановление сил требуется больше. К началу 2015 года реально мне требовалось 12—14 часов сна в день. Хотя я с трудом себе в этом признавалась и старалась не отстать от рабочей нагрузки, напрячься и сделать все, что запланировано. Я вставала в 7—8 утра, чтобы отвести дочь в садик и ложилась в 2 часа ночи, укоряя себя в том, что сделать удалось меньше половины намеченного. Я работала даже в выходные. Потому что не справлялась ни с одним графиком.
А еще продолжительная сильная боль иногда включает древние механизмы защиты и выживания. Древняя часть мозга упрямо сопротивляется разумным доводам и «спасает» тело как может. Этот механизм и спровоцировал мой самый длинный и больной приступ.
Но, пожалуй, самое противное в боли – от нее портится характер. Когда боль усиливалась, я становилась очень капризной и раздражительной. Это нормально, если вспомнить, что помимо изматывающего состояния на меня накладывался еще какой-то дискомфорт (ребячий скандал, чья-то обида, собственное несогласие с чем-то). Но страдали от этого, конечно, те люди, которые находились рядом. Чаще всего прилетало моей Кате. Я и без того не идеальная мать, склонная к подавлению и психологическому насилию. Но к 2015 году я уже более менее научилась жить с дочерью мирно. Договариваться, а не давить. Но боль откатила наши отношения года на 2 назад.
Я кричала на нее, и остановиться было очень тяжело. Сдерживаться, терпеть и так приходилось очень много. Я извинялась после каждой вспышки гнева. А потом стала просто предупреждать ее: «Слушай, у меня сегодня нет чувства юмора, мне больно. Одевайся, пожалуйста, побыстрее и давай не будем скандалить». Ну, конечно, скандалить она все равно скандалила, если хотелось. Но, по крайней мере, мы обе понимали, что происходит, и быстро мирились. Я снова объясняла ей, что мне больно, и я очень жалею, что сорвалась. И скоро Катя, когда видела поднимающуюся вспышку гнева, стала спрашивать: «Мама, у тебя опять нет чувства юмора?». И мне даже сразу как-то легче становилось, я выдыхала: «Да. У меня болит». Часто на этом месте неприятное развитие событий пресекалось.
Говорить о боли – это вообще отдельная тема. Сказать «Мне больно!» где-нибудь за пределами ближнего круга было почти невозможно. Я скатывалась в болезнь 3 года. Но только тогда, когда я почти уже превратилась в инвалида, я научилась об этом говорить. Весь мой словарный запас разбегался, когда я пыталась говорить о боли. Потому что хотелось сказать так, чтобы тебя поняли и посочувствовали, а вовсе не пожалели и не сочли «убогенькой».
Почему так происходило? Возможно, потому, что в обществе больше принято говорить о преодолении, чем о самом существовании в боли. Он терпел-терпел, преодолел, справился, оправился, вернулся в ряды «нормальных людей» или поразил «нормальных людей» своими выдающимися успехами. И все это со стиснутыми зубами. Молодец! О таком преодолении напишут повесть, снимут фильм и покажут по телевизору раз-другой. Если ты не терпел, а орал, как резанный, ныл и кидался на стенки, и, не дай бог, грубо отвечал сочувствующим – ты плохой. Болеть нужно молча в тряпочку, а на людях показывать только героизм и выдержку.
Но, черт возьми, все мы люди. Иногда я думала, где взять сил, чтоб достать «тряпочку» и не заорать от боли на очередном повороте маршрутки. Впрочем, иногда я все же злилась и рыдала в голос. Тогда, когда оставалась дома одна. А случалось, что я не выдерживала и все же просила о помощи. Однажды мне привезли Найз посреди ночи и сварили ужин. Сам факт такой помощи произвел больший терапевтический эффект, чем любое обезболивающее. Утром я встала, сама приготовила оладьи и даже смогла поехать работать в офис.
Язык, на котором можно запросто сказать «Мне больно!» я все же нашла. Помог универсальный преломитель и преобразователь любых неловких ситуаций – юмор. Местами мой юмор был черный или, такой, серый, грустненький. Но это была единственная возможность донести до людей вот этот текст: «Мне больно, но я еще держусь. Меня не надо брать на ручки и окутывать заботой. Не надо скорби. Просто скажите что-нибудь ободряющее». Помогало.
Исполнительный мистер Гиммик подсовывал все новые сюжеты для «острот», а я беззастенчиво истерила в соцсетях. У меня было несколько «слушателей», которым хватало сил дочитывать все мои длинные сообщения до конца. Но я понимаю, что читать мое нытье иногда было страшно. И спасибо всем, кто его выдерживал. Этих людей было не много (их не может быть много). Но они участвовали в моем выздоровлении, пожалуй, не меньше, чем врачи.
Так выглядела моя боль на самом пике болезни. Но болезнь и боль были лишь небольшой частью моей истории. Пожалуй, это был эпилог к моему детству-отрочеству. Дальше мне предстояло повзрослеть, а я не знала, как. И уперлась в стену из отчаяния и боли.