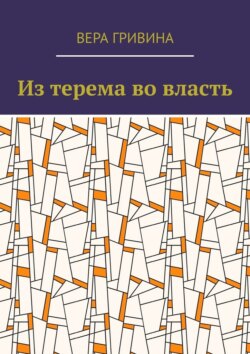Читать книгу Из терема во власть - Вера Гривина - Страница 3
Пролог
Короткое царствование
ОглавлениеВ ночь на 30 января 1676 года преставился государь всея Руси Алексей Михайлович. Весть о его кончине мгновенно разнеслась по Кремлю, и не успели звонари ударом большого колокола сообщить Москве горестную весть, как придворная знать ринулась во всю прыть к покоям старшего сына усопшего государя, четырнадцатилетнего царевича Фёдора.
– Не дай Господь, Артамошка нас упредит! – причитал, тяжело дыша, князь Яков Никитич Одоевский.
– С него, старого хрена, станется! – вторил ему племянник, князь Василий Фёдорович Одоевский.
Так они поминали недобрым словом боярина Артамона Сергеевича Матвеева – худородного выскочку, сумевшего несколько лет назад женить с помощью интриг овдовевшего Алексея Михайловича на воспитаннице своей жены, Наталье Кирилловне Нарышкиной. От этого второго брака родился царевич Пётр. Словно назло всем недоброжелателям Матвеева, мужское потомство от первой царицы, Марьи Ильиничны Милославской, обладало слабое здоровьем. Отца смогли пережить из пяти его сыновей от первого брака лишь Фёдор и Иван, да и про тех все знали, что они «дышали на ладан»: то есть, в любую минуту могли умереть от любого недомогания. Обоих братьев мучила унаследованная ими от отца цинга1, и каждый из них имел ещё несколько собственных недугов: Фёдор, например в детстве выпал из саней, и те ему по хребту проехали. В такой ситуации многих царедворцев пугала возможность того, что «великого государя ближний боярин» Матвеев добьётся от Алексея Михайловича передачи престола младшему царевичу, имеющему отменное здоровье Петру, которому было всего три с половиной года. Нетрудно было догадаться, кто, в случае воцарения маленького сына царицы Натальи Кирилловны, получит реальную власть. Поэтому бояре, узнав о кончине Алексея Михайловича, кинулись целовать крест царевичу Фёдору.
Шумная толпа ворвалась в покои царских сыновей. Некогда было отворять дверь опочивальни наследника престола – её просто вышибли вместе с косяком. Перемахнув через поверженную преграду, придворная знать разом плюхнулась на колени. Свечи осветили хилого, испуганного юношу. Он с недоумением взирал на придворных.
– Государь наш, надёжа! – громко возопил старый князь Никита Иванович Одоевский. – Фёдор Алексеевич! Прими крестное целование от осиротевших холопьев царских!
Царевич смертельно побледнел и пошатнулся, однако упасть не успел: бояре его подхватили, наспех одели, отнесли в Грановитую палату, усадили в позолоченное кресло и присягнули ему.
Когда нового царя водворили обратно в опочивальню, царедворцы, наконец, огляделись. Только теперь они заметили некоторый беспорядок в одежде друг друга.
– Ворот, дядюшка, у твоей рубахи чудной, – простодушно шепнул дяде князь Василий Фёдорович Одоевский.
Князь Яков Никитич торопливо запахнул охабень.
– Да я второпях княгинину рубаху на себя натянул. Некогда было её менять, авось окромя тебя, никто бабьей одёжи не приметил.
– Добро, что ты вместо штанов не влез в юбку, – фыркнул Василий Фёдорович.
– Глянь на свои сапоги, а потом смейся.
Младший князь Одоевский опустил свечу и изумлённо крякнул: на правой его ноге был алый с золотом красавец, на левой – старый, облезлый уродец.
– То-то мне ступать больно.
Василий Фёдорович захромал.
– Обезножил ты вдруг, племянничек? – съехидничал Яков Никитич. – А ведь и четверти часа не минуло опосля того, как ты зайцем скакал.
– Жизнь заставит – орлом полечу, – философски заметил его племянник.
Похороны усопшего царя совершились чинно и благопристойно. Не беда, что нового государя несли за гробом на носилках – это лишь добавило скорби к трагическому зрелищу. Но при отпевании был обойдён старинный обычай, и ни кем иным, как патриархом Иоакимом, не допустившим к гробу духовника покойного царя, попа Андрея Савинова. Но присутствовавшие сделали вид, будто не заметили явного нарушения традиции.
Нового царя принесли с поминальной службы едва живым. Когда он поддерживаемый со всех сторон боярами поднимался по лестнице, трагическое безмолвие Кремля внезапно нарушилось истошными воплями, доносившимися со стороны женской половины.
– Иван Михайлович, ступай, разберись! – слабым голосом велел Фёдор своему родственнику, окольничему Милославскому.
Тот, дойдя до женских покоев, обнаружил в светёлке тётки молодого государя, царевны Татьяны Михайловны, бесновавшегося попа Андрея Савинова.
– Покойный государь прощения не получил! – орал бывший царский духовник. – Не дозволил мне патриарх долг исполнить – вложить в руки усопшего прощальную грамоту. Нашлите на патриарха войско! Изничтожьте его! Порешите супостата! Коли не умертвите патриарха, прокляну вас! Сам найму ратных людей и пошлю на злодея! У меня уже есть пятьсот верных людей!
Не составляло труда понять, что поп был мертвецки пьяным. Рядом с ним стояла растерянная царевна Татьяна Михайловна.
«Хоть бы нынче отец Андрей не срамился», – недовольно подумал Милославский.
Поп вдруг упал и стал биться лбом об пол.
– Ахти, батюшка! – засуетилась Татьяна Михайловна. – Головку расшибёшь!
Распахнулась дверь, и в светёлку прошествовала восемнадцатилетняя царевна Софья Алексеевна.
– Патриарх требует к себе отца Андрея! – равнодушно сообщила она.
Савинов мгновенно протрезвел.
– Матушки-царевны! – заскулил он. – Не погубите! Не выдайте меня супостату!
– Не смеем мы, грешные, противиться патриаршей воле, – жалобно проговорила Татьяна Михайловна.
– Не в нашей девичьей власти – выдавать али не выдавать тебя, – холодно подтвердила Софья и так посмотрела на попа Андрея, что он слова больше не вымолвил.
«Напутал Господь, да простит Он меня, – думал Милославский, глядя на молодую царевну. – Софье надобно было мужчиной родиться. Ничем девицу не проймёшь, ни жалостью, ни памятью об отце. А вот братец её, государь наш, может заступиться за недостойного попа. За что благочестивый Алексей Михайлович так любил греховодника? Не за блуд же и пьянство? Как бы сей срамник опять не угодил в царские духовники».
Но Фёдор не пожелал ссориться с патриархом Иоакимом и выдал ему на расправу попа Савинова. Таким образом новое правление началось с согласия между светской и духовной властью. Молодой царь вообще повёл себя очень миролюбиво: после его восшествия на престол не случилось даже падения Матвеева, ожидавшегося со злорадством недругами последнего. К всеобщему изумлению, новый государь уже на следующий день после похорон отца позвал к себе Артамона Сергеевича. Старый хитрец возрадовался. Значит хворый правитель ищет опору в ком-то сильном и есть возможность укрепиться во власти ещё прочнее, чем прежде. Матвеева даже не пугало то, что ему, возможно, придётся отречься от Нарышкиных: уж больно они были жадными, глупыми и спесивыми.
Когда довольный Артамон Сергеевич шёл к царю, встречные кланялись ему с прежним подобострастием. Ничего, казалось, не изменилось.
Фёдор находился в своём кабинете и сидел небольшом креслице. Обложенный с трёх сторон подушками он выглядел, несмотря на раннее утро, довольно уставшим.
Матвеев поклонился.
– Доброго здравия, государь! Как тебе спалось?
– Спасибо за заботу, Артамон Сергеевич! С устатку сон был крепким, – тихо ответил царь и неожиданно спросил: – Ты почто без бумаг ко мне явился?
Артамон Сергеевич мысленно выругал себя за упущение, но быстро нашёлся:
– Прости, государь! Я покуда на память не жалуюсь. Спрашивай – отвечу.
– Вот ты желаешь нехристей-турок побить. А не накладной ли для нас будет такая война?
Матвеев с радостью сел на своего любимого конька и завёл речь о победоносном походе христианских держав на турок. Однако Фёдор продолжал сомневаться:
– Больно уж союзники наши ненадёжны: ляшский и свейский2 короли сами желают урвать российской землицы, а римский цезарь до смерти боится султана. Не случится ли так, что, когда мы вступим в войну, прочие не токмо не поспешат к нам на помощь, но станут еще и басурман на нас науськивать. Князь Василий Голицын сего очень страшится.
Артамон Сергеевич разозлился на упомянутого царём князя Василия Васильевича Голицына, в котором давно чувствовал соперника:
«Вот гад Васька! Мостит себе путь наверх. Меня, не иначе, желает скинуть».
Однако внешне Матвеев ничем не выдал своих переживаний.
– Умён князь Василий Васильевич, но в делах неопытен, – сказал он с ласковым сожалением. – В чём он прав так в том, что и ляхи, и свеи, и римский цезарь нас не жалуют. Однако же мы для них и не опасны, чего не скажешь о турках, нагнавших страху на весь христианский мир.
Матвеев словом не обмолвился, сколько он лично потратил усилий, чтобы напугать Европу турецкой угрозой. Уж больно ему хотелось снискать славу победителя Османской империи.
– Ладно! – согласился Фёдор. – Я не стану тебе мешать, напротив, помогу – избавлю от лишних хлопот. Покуда ты великие дела решаешь, князь Никита Иванович Одоевский малым займётся.
Матвеев был разочарован, поняв, что юный государь частично лишает его власти. Однако хитрый интриган постарался не выдать своего недовольства.
– Мудрое твоё решение, государь! Лета мои немалые, силы не прежние, пора другим потрудиться не одними языками.
– Я того же мнения! – подхватил царь. – Всем надобно за дела приняться. О том и указ мой новый.
Он взял со стола бумагу и прочёл:
«Надобно боярам, окольничим и думным людям съезжаться в Верх в первом часу от рассвета и садиться за дела».
– Не слишком ли рано, государь? – вырвалось у Артамона Сергеевича.
Фёдор решительно помотал головой.
– Нет не рано! Когда мужики с рассвета трудятся, боярам стыдно подолгу спать. Неужто подлый труд важнее государевой службы?
Возразить было нечем.
А молодой царь продолжал огорошивать канцлера:
– Больно мы от иных царств-государств отстали. Гнаться за ними во весь опор трудно: можно по пути и себя потерять. А оставаться на месте ещё опаснее: стоячая вода гниёт, и в болоте нет жизни. Перемены надобно начинать с верхов. Пущай бояр, окольничих и думных дьяков будет больше, зато каждый из них основательно займётся своим делом. Верно?
– Верно, государь! – кисло отозвался Матвеев.
Внезапно Фёдор сильно побледнел и откинулся на спинку кресла.
– Ступай, Артамон Сергеевич! – прошептал он.
– Поберёг бы ты себя, государь, – с нарочитой заботой заметил Матвеев.
Царь болезненно поморщился.
Настроение у боярина совсем испортилось.
«Вот щенок! – сердито думал он. – Дышит на ладан, а желает править круче отца своего. Ну, ничего! Надолго хворому прыти не хватит».
Матвеев не оставлял надежды укрепиться при дворе, но осень разрушила все его честолюбивые планы Матвеева. Князь Василий Голицын оказался пророком: западные страны предпочли натравить османцев на Россию, а сами остались сторонними зрителями. Польша даже заключила с Турцией мирный договор, по которому отдала султану всю Малороссию, включая Киев и российское Левобережье. Гетман Пётр Дорошенко готовил из своего «стольного града» Чигирина совместное наступление турок и казаков. Таким образом Россия оказалась один на один с сильнейшим врагом.
Царь спешно пожаловал князю Василию Голицыну боярство и отправил его в Малороссию. Скоро русская кавалерия под командованием полковника Косагова без боя заняла Чигирин. Турецкое наступление захлебнулось, когда князь Григорий Григорьевич Ромодановский сумел одержать победу над многочисленной армией Ибрагим-паши. Тем не менее, несмотря на все успехи, Россия не была готова к долгой войне с Блистательной Портой.
Царский двор пришёл в смятение, и все принялись обвинять Матвеева. Артамон Сергеевич ещё какое-то время оставался на прежнем месте, но от не так давно всесильного ближнего к царю боярина стали теперь шарахаться даже Нарышкины. Когда же, наконец, на Матвеева была наложена опала, с облегчением вздохнули не только его многочисленные враги, но и немногие доброжелатели. Бывший канцлер уехал в ссылку, а при царском дворе взошла звезда князя Василия Васильевича Голицына.
Во вторую зиму своего царствования молодой царь опять расхворался. Однако тот, в ком, казалась, едва теплилась жизнь, не давал покоя ни себе, ни другим. Ежедневно в государевой опочивальне проходили совещания, на которых Фёдор, лёжа в постели, обсуждал насущные вопросы.
Однажды государю принёс отчёт князь Никита Иванович Одоевский. Несколько часов Фёдор мучил старика, выясняя различные мелочи, пока беседу не прервал явившийся в царскую опочивальню князь Василий Голицын.
– Ступай, Никита Иванович! – велел царь.
Одоевский глянул с благодарностью на своего избавителя, поклонился царю и вышел.
– С чем пожаловал, князь? – спросил Фёдор.
– Чигирин нам нипочём не удержать, – твёрдо заявил Голицын.
Молодой государь помрачнел.
– Худо, что не удержать. Малороссы чтут сию крепость и не простят нам её погибели. Да и турки, опосля такой победы могут разохотиться и попереть на Киев. Оттоль и до наших исконных земель недалече.
Князь с сомнением покачал головой.
– Опосля разгрома Ибрагим-паши турки сами сыты войной по горло. Но оставаться побитыми им не дозволяет гордость – вот мы её и потешим. Отошли воеводам две грамоты – явную и тайную: в первой вели измотать и прогнать османцев из Малороссии, а в другой поручи князьям Ромодановским разрушить Чигирин и отступить к Киеву.
Царь покраснел до корней волос.
– Значит, вся вина за разорение Чигирина ляжет на воеводу, князя Григория Ромодановского? Мы же обесчестим старика опосля стольких лет его верной службы.
– А ежели ты на себя возьмёшь вину за разрушение Чигирина, то может восстать вся Малороссия. Сам понимаешь, чем грозит нам тамошняя смута. Уж лучше бесчестье воеводы Ромодановского, чем ссора с малороссами.
– Неужто никак иначе нельзя?
– Нельзя. Станем удерживать крепость – затянем войну и разорим свой народ, а в открытую уничтожим Чигирин – малороссов обидим. Пущай один воевода пострадает взамен государя и всей России.
Царь заглянул в холодные глаза своего собеседника.
«Поди, сам ты не пожелаешь погубить свое имя даже ради государевой чести».
Вслух же он согласился:
– Быть по сему! Составляй грамоты, явную и тайную.
Стараниями Голицына России удалось избавиться от разорительной войны. Были заключены два перемирия – тридцатилетнее с Польшей и двадцатилетнее с Турцией. Русское государство закрепило свою власть над Левобережьем Днепра.
В своём семействе молодой царь сумел выстроить прекрасные отношения со всеми, включая мачеху. Нельзя сказать, чтобы Фёдор любил Наталью Кирилловну, но он всегда старался быть с ней приветливым. Что касается маленького Петра, то ему царственный единокровный брат приходился ещё и крёстным отцом. Однако большой любви к своему крестнику Фёдор не чувствовал, за что, будучи благочестивым, очень винил себя и из-за этой вины посылал мальчику много игрушек.
Более искренне государь относился к брату и сёстрам, родным ему не только по отцу, но и по матери. А ближе всех ему была сестра Софья, обладавшая, по общему мнению, отнюдь не женским умом. Покойный царь Алексей Михайлович даже дозволил старшей дочери получить довольно-таки приличное образование, а учителем у неё был так же, как и у царевичей, образованный монах Симеон Полоцкий. Царевна овладела латынью, греческим и польским языками, прочла много книг по истории и географии. Ей очень нравились французские комедии и трагедии, а любимыми её авторами были Мольер и Расин. Царь понимал, что подобные увлечения связаны отчасти со скукой теремной жизни. Всем царевнам не хватало развлечений.
«Тяжко им, бедным, – думал Фёдор. – У прочих девиц есть надежда на то, что их затворничество закончится с замужеством, а моим сестрицам так и придётся век вековать. За иноверцев их нельзя отдать, за неровню тоже – вот и тоскуй одна до самой смерти. Отец свою молодую жену развлекал: дозволял ей глядеть в щёлку на разные действа, а царевны и о том помышлять не смеют. Несправедливо с ними поступают, но таков порядок».
Острая умом и на язык царевна Софья даже с царём говорила с некоторой долей превосходства. Он давно привык к этому и не только обижался, но и в серьёзных случаях всегда обращался к ней за советом. Так произошло и тогда, когда Фёдор, проезжая по улице в Вербное воскресенье 1680 года, увидел среди толпы покорившую его сердце девицу, оказавшуюся прибывшей в Москву из Смоленска дочерью польского шляхтича православного вероисповедания, Агафьей Грушецкой.
– Красивая она, – сказал в заключение государь, поведав сестре об этой встрече.
– Бери её в жёны и любуйся – посоветовала Софья. – Правда, род Грушецких не больно знатен, но уж не хуже Нарышкиных.
– А смотрины?
– Кому они надобны? Вон как Матвеев на смотринах батюшку нашего надул – подсунул вместо голубки медведицу.
Софья намекнула на известный случай. Когда овдовевшему Алексею Михайловичу по установившемуся порядку показывали невест, ему приглянулась Евдокия Беляева. Однако Артамон Сергеевич сумел оболгать царёву зазнобу. Беляевых изгнали с позором, и царицей стала Наталья Нарышкина.
Царь про себя согласился с сестрой, но вслух возразил:
– Порядок таков, чтобы были смотрины.
– Ты государь, вот и меняй плохие порядки на хорошие.
Фёдор Алексеевич улыбнулся.
– Жаль, что ты родилась не мужчиной и не правишь нами.
– Грешно роптать на Божью волю. Лучше женись, братец, скорее да роди наследника. Не приведи Господи, случится с тобой беда! Ивану не устоять против Нарышкиных, и тогда Медвежонка царём сделают.
– Может быть, в том нет ничего страшного? Коли я не сегодня помру, Петруша подрасти успеет и не станет родичей слушаться. Я же не держу Ивана Михайловича Милославского в советчиках.
– У нас токмо один родич матушкин остался, а у Натальи полно братьев, да ещё есть в придачу батюшка – старый греховодник. С одним дураком легче справиться, чем с пол дюжиной глупцов.
Отменить сбор невест молодой государь всё же не решился, однако приглашены на него всего девятнадцать девиц, включая Агафью Семёновну Грушецкую, которую Фёдор сразу же выбрал. Бояре втихомолку роптали: ведь каждый из них мечтал, чтобы царю приглянулась на смотринах его родственница. С другой стороны не все умели строить козни, подобные тем, которые сотворили ближние бояре Алексея Михайловича, женившие государя оба раза не по его выбору. К тому ж слабый телом царь Фёдор имел твёрдый и упрямый нрав. Если даже Грушецкую удалось бы оболгать, всё одно молодой царь сам нашёл бы себе новую невесту.
Выбору царя попытался воспротивиться только его родственник, ставший к тому времени боярином Иван Михайлович Милославский. Он отсутствовал на том заседании Боярской думы, на котором Фёдор объявил о своем решении жениться на Агафье Грущецкой, но, узнав о предстоящем браке, сразу же чудесным образом выздоровел и бросился к царю.
Когда Милославский ворвался в царский кабинет, Фёдор занимался тем, что составлял на бумаге первый в России государственный бюджет.
– Ты чего надумал? – заорал боярин, даже не поклонившись. – Из воробьихи орлицу творишь! Совсем царскую постель обесчестили! Тащат в неё всякую кого не попадя! Вскорости и до подлых девок черёд дойдёт!
В дополнение к своей речи он длинно выругался.
Потемнев от гнева, царь поднялся, подошёл к двери и громко позвал:
– Михайло! Алексей!
Тут же явились братья Лихачёвы – стряпчий и постельничий.
– Дело у меня к вам важное, – обратился к ним царь. – Родич наш, боярин Милославский так зарвался, что смеет порочить будущую царицу. Возьмите-ка его под белы руки да выкиньте из царских покоев, авось образумится. А коли не образумиться, мы иные меры примем.
Братья Лихачёвы с готовностью засучили рукава и шагнули к Ивану Михайловичу.
– Не смейте касаться меня, сучьи дети! – взвизгнул Милославский.
– Не противься, боярин! – предостерёг его Фёдор. – А то я стрельцов на помощь позову.
Чтобы избежать ещё большего срама, боярин покорился. Братья Лихачёвы потащили его к лестнице, старший при этом приговаривал:
– Кабы ты, боярин, нас обидел, мы простили бы по-христиански и толкнули бы тебя помягче. Но тот, кто матушку нашу честную, царствие ей небесное, худым словом поминает, жалости недостоин.
Что есть силы швырнули Лихачёвы царского родича вниз, а затем с удовольствием наблюдали, как он пересчитывал ступеньки. Помятого боярина подобрали стрельцы и вывели из царских покоев.
За шумным выяснением отношений не последовало опалы, потому что Фёдор не желал окончательно рвать отношения с родственником своей покойной матери. Однако урок не пошёл впрок. Иван Михайлович всё не унимался: бранил царя, плохо отзывался о молодой царице. Потеряв, наконец, терпение царь запретил своему строптивому родичу появляться в Кремле.
Брак Фёдора Алексеевича был счастливым, но недолгим. На следующий год царица Агафья родила сына Илью и сразу же скончалась. Младенец умер через десять дней.
Полгода царь Фёдор скорбел. Тем временем его старшая сестра старалась найти ему новую жену. Она понимала, что лишь девица похожая на покойную царицу может прийтись по сердцу брату. Но как она могла ему помочь, находясь в затворничестве? Поразмыслив, царевна решила обратиться к думному постельничему Ивану Максимовичу Языкову. При их беседе присутствовала лишь царевна Татьяна Михайловна, любившая племянницу эту свою и во всем её слушавшаяся.
Когда Софья изложила суть дела, Иван Максимович не удивился или не показал вида, что удивлён. После недолгого молчания он сообщил:
– Есть девица похожая на покойную царицу, словно сестра родная. Она дочь свойственника моего Матвея Апраксина, по имени Марфа.
– Ты, значит, хочешь с царём породниться? – вмешалась Татьяна Михайловна.
Языков развёл руками.
– Помилуй, матушка царевна! Меня спросили – я ответил. Где ещё можно всех невест знать, как не в своём семействе? У нас ведь положено девицам сидеть взаперти да на чужие очи не показываться.
Софья нетерпеливо махнула рукой.
– Неважно, чья девица, лишь бы она была не из Нарышкиных. Нам не до жиру быть – быть бы живу. Сватай государю свою красу-девицу.
– Здрава ли она? – спросила Татьяна Михайловна.
– Верно, – спохватилась Софья. – Государева невеста должна иметь отменное здравие, чтобы не случилось новой беды при родах.
Иван Максимович пожал плечами.
– Я не купец – гнилой товар не предлагаю – тем паче самому государю. Нынче Марфа здрава, как кобыла, а что завтра с ней случится одному Богу ведомо.
– Ладно! Давай свой товар! – отрезала Софья.
Марфа Апраксина на самом деле походила внешне на покойную царицу Агафью Грушецкую. При встрече с ней Фёдор поразился до глубины души и почти сразу сообщил всем о своей готовности вновь жениться. Скоро состоялась свадьба – без обычного чина, при запертом Кремле. Царь торопился: цинга неумолимо поедала его молодое тело.
Но даже почти побеждённый недугом молодой государь занимался государственными делами, отвлекаясь от них на время лишь тогда, когда ему становилось совсем худо. После того, как заключённый князем Василием Голицыным Бахчисарайский мир спас Россию от турецкой опасности, царь мог всерьёз заняться внутренними проблемами страны.
– Что у нас надобно менять в первый черёд? – спросил он однажды у ставшего его главным советником князя Василия Голицына.
– Многое перемен требует – неопределённо ответил тот.
– С чего ж начать?
Князь немного помолчал, как бы обдумывая, затем сказал:
– Государство наше растёт, а управляется по старинке. Хоть и говорят, что царёво око видит далёко, мудрено углядеть аж до самого Амура.
– Я о том уже размышлял и кое до чего додумался. Коли всю Россию покрыть православными епархиями, легче станет народ просвещать да на путь наставлять. Тогда воеводы поостерегутся чересчур своевольничать – не так, как нынче, когда бедным людишкам некуда за помощью обратиться.
– Понятное дело – согласился князь. – Когда царь за тридевять земель, каждый воевода мнит себя царьком в своих владениях. При архиерейском надзоре лихоимства поубавится.
Фёдор оживился, на его бледном лице даже выступил лёгкий румянец.
– Сколько же нам надобно епархий? По моему разумению не меньше сотни.
– Можно и поменьше, – сдержанно возразил Голицын.
– Все одно поболее, чем сегодня. Воеводы будут недовольны, но мы их умаслим отменой местничества.
– Местничество давно умерло, – согласился князь. – А нам осталось покойника снести на погост, чтобы не смердел. Пущай будет знатность рода сама по себе, и служба с чинами сами по себе.
– Вот я и велел дьякам подготовить указы о новых служилых разрядах как раз к тому времени, когда будет составлена родословная книга.
Царь подошёл к заваленному бумагами столику, вытащил листок и протянул его Голицыну.
– Не токмо родовитые люди должны иметь свою книгу.
Князь вслух прочёл:
– «А книгам быть: родовитых людей, выезжих, московских знатных людей, дворянских, гостиных и дьячих, всяких низких чинов».
– Все книги будут храниться в Гербальной палате, – гордо сообщил Фёдор.
Князь Василий Голицын понял замысел царя. Любое сословие при наличии своих родословных записей переставало быть «подлым» и, значит, становилось твёрдой опорой для государя. Царь не зря связывал создание книг с указами о служилых разрядах: по его замыслу всякий имеющий способности сможет добиться высоких чинов, не страшась упрёков в тёмном прошлом рода.
– Нельзя творить перемены, не имея поддержки, как в высоких, так и в низких чинах, – добавил государь.
– Можно, коли в ход пустить дубину.
– Нет уж, мы без дубины управимся. Правда, князь?
– Попробуем.
– Ступай, князь! Поразмысли об устроении больших служилых чинов.
Едва Голицын сделал несколько шагов к двери, как Фёдор окликнул его:
– Погоди, князь! Больно мне кафтан твой приглянулся. Дай поглядеть на него, как следует.
На стройном князе Голицыне был довольно короткий, выше щиколотки, кафтан. Хотя обычно в таком наряде щеголяла молодёжь, князь Василий Васильевич в свои тридцать восемь лет не боялся выглядеть несолидно. Правда, появился у государя в таком одеянии он впервые, но, видимо это решение было им принято в добрый час.
– Надобно сию одёжу узаконить, – заключил царь.
Спустя несколько дней, с Постельного крыльца огласили царский указ: ферязи, охабни, однорядки и прочее длиннополое мужское платье поменять на короткие кафтаны. Скоро после этого стрельцы перестали впускать длиннополых в Кремль. Месяца не прошло, как вся Москва переоделась по доброй воле, тем паче новые наряды были дешевле старых.
Патриарх, ругавший бритьё бород и прочие иноземные затеи, к перемене платья отнёсся спокойно. Зато он не принял желание государя увеличить число епархий. По царскому замыслу, каждый митрополит должен был получить в подчинение епископов – вот Иоаким и усмотрел в готовящейся реформе попытку ограничения его власти, а Освящённый собор поддержал своего главу. Архиереи неохотно согласились на образование одиннадцати новых епархий, и притом не спешили исполнить собственное постановление.
Царь Фёдор впадал в отчаяние. Уже совсем больной он пытался образумить церковных иерархов, но каждый раз натыкался на непонимание.
В один из зимних дней государь встретился с патриархом в Грановитой палате. Войдя туда, крепкий старик торжественно благословил измождённого юношу.
– Садись, отче! – указал Фёдор на место подле себя.
Иоаким остался стоять.
– Мне, государь, сподручнее так вести с тобой беседу.
Кивнув, государь заговорил о деле:
– Наши архиереи не желают посылать епископов на Лену и в Дауры. Неужто Сибирской стране не надобны архипастыри?
Патриарх пожал плечами.
– В тех краях людей почитай нет, а есть одни язычники поганые.
– Язычники тоже люди, и им надобно указать путь к спасению.
«Аки волка не корми, он все в лес смотрит. Посечь бы всех поганых вместе с их капищами богопротивными», – подумал Иоаким, но вслух этого не сказал.
Царь продолжал настаивать на своём:
– В Сибири и православные живут. Им-то чего делать? Вон к Нерчинску и Албазину китайцы подступают. Случись беда, сгинут христиане без покаяния.
– Есть ведь в Даурах священнослужители, – недовольно проворчал Иоаким.
– Они в малом числе. Тамошние земли наши навечно, и нехристям мы их не отдадим. Я повелел строить города в Сибирской стране и выступить против китайцев всем служивым людям. Однако чтобы нам в дальних краях укрепиться, надобно там веру христианскую распространять.
– Мы с Освящённым собором ещё потолкуем о сибирских архипастырях, – недовольно отозвался патриарх. – Хотя может лучше отдать дальние земли вместе с погаными иноверцами китайцам? Нам в исконной вотчине забот хватает.
Государь нахмурился.
– Ты, отче, готов отдать наши земли всем, кому не попадя: Киев с Малороссией – ляхам, Сибирь – китайцам. Тебя послушавши, я на одной Москве останусь. Значит, в исконной вотчине хватает забот? Уж куда исконнее Галич с Костромой, а Церковью православной забыты. Там раскольники хозяйничают, равно как и в Путивле с Севском.
– Так наведи войско, изничтожь ересь силой.
– Кажись, терпение и смирения не в чести у вашего брата, архипастыря. Не обессудь, отче, но порой я, на тебя глядючи, расстригу Аввакума поминаю. Есть меж вами схожесть.
Патриарх аж побагровел.
– Чем же мы схожи? – тихо спросил он.
– Тем, что крови людской не страшитесь. Аввакум желает пережечь и перепластать всех православных, а ты готов изничтожать всех без разбору раскольников. Может быть, среди заблудших овец немало тех, чьи души спасутся от мудрых наставлений?
– Не больно они души берегут! Жгут себя ироды целыми сёлами! И вечные муки им не страшны!
– Воистину раскольники свершают тяжкий грех. Но главная вина лежит не на простых людишках, а на их пастырях. Значит, наши пастыри должны быть лучше.
Багровый цвет лица Иоакима приобрёл синеватый оттенок.
– По-твоему, пущай Аввакум с братией здравствуют, а мы же будем с ними в велеречии состязаться. Их погаными языками сам нечистый, прости Господи, вещает. Покуда его словесами одолеем, ещё немало народу себя пожгут.
– Ладно, отче, дам я согласие на казнь Аввакума, Лазаря, и Епифана, – устало сказал Фёдор.
Патриарху сильно не понравилось явное нежелание государя чинить расправу.
– Ты царь али не царь? Коли мнишь себя царём православным, должен защищать основы Веры и казнить беспощадно врагов наших, инако падет истинное христианство, придёт всеобщий соблазн и настанет конец Мира.
– Уж больно много ты, отче, тьмы нагоняешь. Бог милостив! Он нас спас даже в Смутное время.
– Тогда спас, нынче покарает, за то, что науку не усвоили, иноверцев сызнова привечаем, слушаемся их, да еще и походить на них хотим, а взамен рушим во имя мирских соблазнов древлепреданное церковное устроение.
– Ну, положим, устроение церковное не древнее: российскому патриаршеству нет и сотни лет.
– Перемены не возбраняются, когда они крепят Святую Церковь, но нельзя допускать разорения единого храма Божьего.
– Ты, отче, страшишься, что при великом числе епархий, власть твоя уменьшится, – раздражённо сказал государь.
Иоаким опять покраснел.
– Смиренный раб Божий не ради власти принял постриг, но ради служения Господу.
– Прости, отче, за обидные слова – заговорил Фёдор уже помягче. – Царь тоже человек и не всегда умеет совладать с неправедным гневом.
– Бог простит, – откликнулся патриарх уже с обычным своим спокойствием.
– Поставьте архипастырей хотя бы туда, где учинили епархии. Ступай!
Глядя вслед уходящему старику, Фёдор невольно ему позавидовал:
«Ишь, как бодро ступает!»
Скоро царь совсем слёг, после чего даже князь Василий Голицын перестал что-либо делать, не говоря о прочих царедворцах. Все выжидали. А двадцатилетнему государю Фёдору Алексеевичу становилось все хуже и хуже.
1
В данном случае имеется в виду такая форма этой болезни, когда витамин C не усваивается организмом.
2
Ляшский и свейский – польский и шведский.