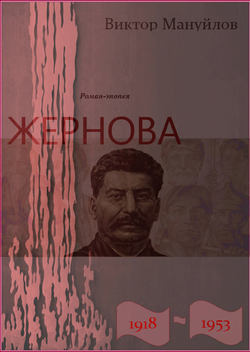Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. Иудин хлеб
Часть 1
Глава 11
ОглавлениеУтром 31 августа Горький встал как никогда поздно. В своем кабинете он попил чаю, велел никого из просителей не принимать и, преодолевая слабость, вызванную обострением чахотки, принялся – в какой уж раз! – перечитывать страницы рукописи повести… или романа? – он сам еще не решил… начатой давно, но подвигающейся вперед медленно и со скрипом.
Написанное ему не нравилось по многим причинам, и главная – оно не отвечало безобразной действительности, которую не могли предсказать лучшие умы российской интеллигенции. Да, Февральская революция 17-го года, встреченная им, Горьким, с восторгом, скинула закостеневшую и опошлившуюся монархию. Да, революция дала русскому народу долгожданную свободу. И что же? А то, что этой свободой воспользовался не народ, а темные силы, выплеснувшие на поверхность неуправляемую стихию, зараженную микробами ненависти как раз к тому слою российского общества, который представляет мозг и душу этого народа. К этому слою относил Максим Горький и самого себя.
В действительности все пошло не так, как виделось ему, когда он брался за тему зарождения и развития капитализма в стране, где душилась всякая инициатива энергичных и талантливых людей, а доброе дело поворачивалось к этим людям своей изнанкой, провонявшей навозом, зипунами и расшитыми золотом лакейскими ливреями.
Последовавший вслед за Февралем Октябрьский переворот, организованный большевиками, превратил плавное течение российской истории в гигантское половодье, разрушающее на своем пути все, что было создано минувшими поколениями. На этом фоне характеры и устремления героев будущей повести… – или романа? – казались мелкими, их поступки едва затрагивали глубинные процессы, происходившие и происходящие во всех слоях российского общества. А главное – они не отвечали на вопросы, почему именно в России произошло то, что произошло? Хотя в реальной действительности ответы на эти вопросы лежат на поверхности: российская интеллигенция оказалась неготовой к случившемуся, она разделилась на мелкие партии, группы и группки, неспособные понять друг друга, чтобы противостоять анархии.
Не осознав всего этого, невозможно написать… все-таки, пожалуй, роман, в котором зарождение капитализма в России потребует углубленных доказательств его неизбежности, его способности к постепенному сближению интересов всех социальных групп, избегая потрясений, взаимной ненависти и крови. В то же время необходимо показать и те подспудные течения, которые толкали часть общества в совершенно другом направлении, проявившиеся сегодня во всей своей жестокой силе…
Горький закурил очередную папиросу.
Настроение было – паршивее некуда. И не столько из-за повести, – ее-то можно переделать! – сколько по причине происходящего, на которое повлиять он не в силах.
Все, что было задумано и создано незадолго до Февраля и после, все это пошло коту под хвост: литературный журнал «Летопись», издательство «Парус», основанные его стараниями еще в 1915 году, закрыты правительством Ленина; «Комиссия по делам искусств», организованная совместно с художниками Александром Бенуа, Николаем Рерихом и Мстиславом Добужинским сразу же после свержения царя, бездействует, как бездействует «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук», призванная объединить российских ученых, а задуманный «Союз деятелей искусств» так и не был создан. Наконец, 16 июля была закрыта большевиками издававшаяся им, Горьким, с апреля семнадцатого года независимая газета «Новая жизнь». В ней Горький призывал российскую интеллигенцию внедрять культуру в сознание русского народа, без чего невозможно устроить действительно «новую жизнь», в ней он разоблачал намерения большевиков во главе с Лениным произвести в России пролетарскую революцию, чтобы затем распространить ее по всему миру.
Наконец, именно в его газете соратники Ленина Зиновьев и Каменев поместили сообщение о том, что ленинцы готовят вооруженный захват власти в Петрограде. Они убедили Горького, что Ленин отступится от своей авантюры из опасения, что Временное правительство, предупрежденное о готовившемся выступлении, сумеет пресечь намерение авантюристов. Сам собою напрашивался вывод, что Зиновьев, Каменев и другие их единомышленники с самого начала не верили в реальность переворота, в реальность создания общества и государства на основе примитивных рассуждений Маркса. Более того, их вполне устраивала оппозиционность по отношению к Временному правительству, их устраивала социальная форма общественных отношений, возникшая после Февраля, как она устраивала и самого Горького. А коли переворот все-таки произошел, Зиновьевым и Каменевым ничего не остается, как зверствовать для удержания власти над обманутым народом.
Горький тяжело поднялся из-за стола, подошел к окну, растворил его и долго стоял, вдыхая свежий ветер с Финского залива, вглядываясь в густую зелень Александровского парка, над которым маячил вдали острый шпиль Петропавловской крепости.
Тяжело вздохнув, он вернулся за стол. Огляделся, точно видел свой кабинет впервые.
Совсем недавно здесь собирались ученые, писатели, поэты, художники. Спорили до хрипоты, как лучше обустроить Новую Россию… Пустые споры, пустые хлопоты! Улица оказалась сильнее. Ей не нужны ни ассоциации лучших российских умов, ни союзы чародеев изящной словесности, ни издательства, ни книги, ни газеты. Улица вполне обходилась и обходится листовками, над которыми не нужно ломать голову: «Земля – крестьянам! Заводы и фабрики – рабочим! Мир – народам!» Чего проще? А как без технической интеллигенции реализовать на практике эти лозунги, как без творческой интеллигенции внедрить в сознание народа настоящую культуру, преследуя всю и всякую интеллигенцию, – об этом ни слова.
«Главное – ввязаться в драку, а там будет видно, что делать дальше», – помнится, именно так рассуждал Ленин, побывав как-то на Капри в гостях у Горького. Говорил, совершенно не задумываясь, во что может вылиться завязавшаяся драка, которую он пророчил в ближайшие десятилетия. Он, видите ли, в книжках вычитал, как можно поднять народ – любой народ! в любой стране! – на дыбы, чем разъярить его инстинкты. В его рассуждениях рабочий класс представлялся чем-то вроде сырой руды для металлистов, из которой он и его присные хотели выплавить нечто уродливое, противоречащее исторической необходимости.
И вот – народ на дыбы поднят, инстинкты разъярены до крайности и направлены не на созидание, а на разрушение, рабочий класс оставил заводы и фабрики, оставил голодными свои семьи и взялся за винтовку. А что дальше? Чем все закончится?
Алексею Максимовичу очень хочется, чтобы закончилось падением большевистского правительства Ленина и Троцкого. И для этого имеются веские основания: англичане совместно с американцами захватили Архангельск – в городе создано Верховное управление северной областью; немецко-австрийские войска оккупировали Украину, признав ее независимым государством; мятежный Чехословацкий корпус занял Симбирск, Казань и Екатеринбург, где за неделю до этого была расстреляна царская семья; англичане захватили Баку, американцы – Владивосток; в Минске создано независимое государство – Белорусская Народная Республика. Независимыми государствами объявили себя Грузия, Азербайджан и Армения.
Казалось бы, вот-вот должна рухнуть большевистская власть и в Москве. Но она все еще держится, сумев подавить восстание левых эсеров, усилив репрессии против собственного народа.
Так и не написав ни строчки, искурив – одну за другой – еще три папиросы, Горький зашелся долгим лающим кашлем, отхаркиваясь в кувшин с высоким горлышком, отирая вафельным полотенцем холодный пот с осунувшегося лица.
На его кашель в кабинет заглянула Варвара Тихонова, женщина лет тридцати пяти, с приятным лицом, на котором особенно выделялись широко распахнутые карие глаза, в которых отражалась мука сострадания к великому человеку. Варвара добровольно взвалила на себя широкий круг обязанностей при чахоточном писателе после разрыва его с Андреевой и развода самой Варвары со своим мужем, соратником Горького по издательским и прочим делам. Варвара готова была терпеть любые муки, лишь бы быть полезной обожаемому Алеше, всеми покинутому, лишенному женского тепла и ухода.
Правда, здесь иногда появляется Мария Закревская, выдающая себя за баронессу, к которой Горький питает давнишнюю слабость, часто забывая обо всем и обо всех. Поговаривают, что она появлялась и на Капри, внося разногласия между Горьким и Андреевой, ускорив их разрыв. Дама эта, вызывающе красивая, умная, владеющая языками, наглая – по мнению Варвары – до невозможности, без зазрения совести пользуется слабостью Алексея Максимовича к женскому полу. При этом она путается со многими известными людьми, сходясь то с одним, то с другим, то с третьим, ничуть не скрывая своей развратной сущности. В нее, говорят, без ума влюблены французский писатель Ромен Роллан и бывший английский посол в России Локарт. И будто бы Алексею Максимовичу об этом хорошо известно. Между тем у нее на Кронверкском своя комната, где она останавливается на короткое время. Питерские чекисты дважды проводили в ней обыск в поисках оружия и запрещенной литературы, но так ничего и не нашли, зато всякий раз заставляли оскорбленного Алексея Максимовича обращаться к Ленину в надежде на защиту от произвола Зиновьева и его клики.
Увидев входящую в кабинет Варвару, Горький замахал руками, тяжело дыша, не в силах произнести ни слова, страдальчески глядя на свою опекуншу.
Не обращая внимания на протесты своего подопечного, Варвара усадила его на диван, высыпала в стакан из бумажного пакетика порошок, развела его кипяченой водой, заставила выпить, приговаривая:
– Ты, Алешенька, в этом сыром Питере доведешь себя до кровохаркания. Уезжать тебе отсюда надо. И как можно скорее. Зиновьев-то со своей бандой тебя в гроб загонит. Тем более что всех писателей и ученых от этих убийц не спасешь, за всех не заступишься, всех не накормишь. И денег-то на всех не напасешься. Продукты все дорожают и дорожают, зиновьевцы продукты распределяют между своими, положение рабочих их не волнует…
– Ну, полно тебе, Варюшка, полно, – хрипел Горький, продолжая задыхаться. – Не все так уж плохо, дорогая моя. Тем более что других-то, кто может заступиться за наши русские умы и таланты, кроме нас нету. А люди науки, искусства – люди беззащитные, беспомощные. Помочь им, вырвать иных из лап озверелой питерской Чека – наша святая обязанность. Уж коли так вышло, что большевики со мной пока еще считаются, этим надо пользоваться. Вся надежда, что они долго не продержатся. Сама знаешь, как мне тошно и унизительно кланяться то Ленину, то Зиновьеву, то Дзержинскому, то Луначарскому, то еще кому-то из этой банды. Так-то вот, дорогая моя нянюшка.
Горький, женатый трижды, но лишь однажды законным образом, никак не мог обходиться без женщины, понимающей его предназначение в этом мире, способствующей это предназначение исполнять наиболее полно. Варвара вполне отвечала этим качествам. Но главное – ее не пришлось разыскивать в толпе его поклонниц, она будто стояла за дверью в ожидании, когда придет ее черед занять освободившееся возле него место.
– Отдохнуть, Алешенька, тебе надобно, – ворковала Варвара. – Лучше всего в Италии: там климат хороший, подлечишься. И никто мешать тебе не станет. Здесь – я-то вижу – не пишется тебе. А ты ведь писатель от бога. Таких нынче днем с огнем не сыщешь по всей России. Да и в Европе тоже. Зато там тебя ценят. А писать письма хоть бы тому же Ленину – пусть этим занимаются Андреева и Крючков. ПеПеКрю – мужик хваткий, с подходцем. Он и к Урицкому вхож, и к Дзержинскому. Правда, Зиновьев его терпеть не может, так он и тебя ненавидит, завидует твоей популярности. Не дай бог, упечет тебя в Кресты – с него станется. А там – с твоим-то здоровьем…
– Полно тебе, полно, ангел мой, – вяло отбивался Алексей Максимович. – Руки у него коротки…
Он откинулся на спинку дивана, устало смежил веки. После долгой паузы спросил:
– Как там у нас?
Варвара лишь пожала плечами: мол, не ее это дело – следить за жильцами большой квартиры.
– Да как всегда: кто встал, а кто не поймешь чем занят, – ответила она.
– Да, что-то я хотел спросить у тебя, – начал Горький, потирая лоб длинными пальцами. – Впрочем, это неважно. У тебя, наверное, и без меня забот полон рот… – продолжил он, но в дверь постучали, она чуть приоткрылась, заглянула горничная, молодая женщина с бесхитростным лицом, в цветастом переднике и белой косынке.
– Ах, прощения просим! – произнесла она нараспев. – Обед-то куда подавать? Сюда аль в общую столовую?
Варвара, опередив Горького, ответила неожиданно твердым, почти мужским голосом:
– В общую. И, будь добра, позови к столу всех.