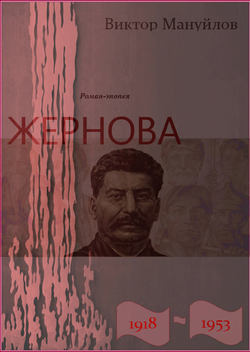Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая. Иудин хлеб
Часть 1
Глава 14
ОглавлениеВ доме за номером 23 доедали картошку с зайчатиной, когда зазвенел наружный колокольчик. Через пару минут в коридоре послышался приглушенный шум. Затем дверь отворилась, заглянула домработница и сообщила:
– Алексей Максимыч! Там к вам просится Корней Иванович Чуковский.
– Корнюша! Проси, Липочка! Проси! – воскликнул Горький, откидываясь на резную спинку стула, отирая платком усы и загадочно ухмыляясь.
Чуковский остановился в дверях, быстрым взглядом черных глаз окинул стол и сидящих за ним людей.
Все повернулись к нему лицом, с любопытством разглядывая нового посетителя, словно видели его впервые.
– Перед вами, господа-товарищи, – возвестил Горький с довольной улыбкой, – будущее светило русской литературы! Кладезь ума, юмора и детской наблюдательности. – Затем, обращаясь к вошедшему: – Что ж ты встал, Корнюша? Заходи! Заходи! Милости просим. Выбирай любое место. Припоздал малость, но это ничего: мы еще не все съели. Тебе хватит! – под сдержанный смешок художников пошутил хозяин стола и закхекал от неловкости.
– Спасибо, Алексей Максимыч! Я уже отобедал. Я чего пришел… – Чуковский более внимательно оглядел присутствующих, ища ответ на свой, еще не заданный вопрос. Догадался, что присутствующие, что называется, ни сном ни духом, но вопрос все-таки задал: – Вы что же, господа, ничего не знаете?
– А что мы должны знать? – настраивался Горький на шутливую волну. – Крестьяне повезли в город хлеб? Заводы и фабрики начали работать? Товарищ Зиновьев объявил вольную томящимся в узилище безвинным ученым и писателям? Что такого мы еще не знаем в нашей юдоли?
– Что такого? А вот что вы, судя по всему, не знаете! – воскликнул Чуковский и, выдержав паузу, перешел на заупокойный тон сельского дьячка: – Вчера утром… в доме номер шесть, что на Дворцовой площади, был застрелен… председатель Петрочека, он же – народный комиссар внутренних дел «Северной коммуны»… небезызвестный всем вам товарищ… Моисей Соломонович Урицкий, – закончил свою декламацию Чуковский на пониженных тонах. Из всего этого нельзя было понять, расстроен он или, наоборот, обрадован. Видя окаменевшие лица, он пояснил: – Об этом, кстати, сообщается в сегодняшнем номере «Красной газеты». Стрелявший – юнкер Михайловского артиллерийского училища Леонид Каннегисер. Фамилия его родителей, надеюсь, вам всем известна, – и он в подтверждение своих слов потряс свернутой в трубочку газетой.
В столовой повисла странная тишина. Никто не знал, радоваться или горевать.
– Теперь начнется, – пробормотал в жуткой тишине один из художников. – Теперь руки у них развязаны окончательно.
Тяжело поднялась Андреева. Лицо ее было чуть менее белым, чем белый воротничок ее блузки. Она с трудом отстранила стул и направилась к двери. Остановившись в двух шагах от нее, обернулась, произнесла:
– Пойду… позвоню. Я не исключаю, что мы имеем дело с обыкновенной провокацией.
– Но газета! – воскликнул Чуковский. – Это же «Красная газета»! Ей-то зачем нужна провокация?
– Мало ли, – отмахнулась Мария Федоровна и решительно скрылась за дверью.
Никто не знал, как себя вести за этим столом после такого известия. Зато знали о беспредельном юдофильстве хозяина квартиры, который называл евреев «друзьями моей души». А тут один еврей убил другого. Ладно бы – на бытовом уровне. То есть по пьянке или еще как-нибудь. В данном случае на лицо – явная политика.
– Папа, и что теперь будет? – робко спросил Макс своего растерявшегося отца, до которого с трудом доходило случившееся.
– Что будут, что будет! – воскликнул Горький, непослушными пальцами пытаясь достать из портсигара папиросу. – Откуда мне знать, что будет! Я не господь бог, не Зиновьев и не Ленин. Это они знают, что будет. Если вообще что-нибудь знают. Что будет, то и будет!
Горький наконец-то выудил из портсигара папиросу, закурил, сломав при этом две спички.
Все видели, как дрожат его руки. И понимали, что если газета не соврала, то надо ожидать нечто ужасное. И более всего для большинства из тех, кто сидит за этим столом.
Один из художников приподнялся, но другой дернул его за подол толстовки – и тот сел, пожимая плечами.
Все ждали Марию Федоровну. Все знали, что она может дозвониться куда угодно и до кого угодно. Даже до Ленина.
– Что там – в городе? – спросил Горький у Чуковского.
– В городе? В городе красные флаги с черными лентами. Патрули, машины с солдатами, матросами, кожаными куртками. Большинство трамваев стоит. На перекрестках броневики. Смольный оцеплен латышами. Везде пулеметы и пушки. Нас – мы шли с доктором Манухиным – проверяли дважды. Искали оружие и листовки. Выручал мой пропуск от «Красной газеты». Подписан следователем Чека Аграновым. Он сейчас ведет это дело.
– Что бы ни было, а жизнь продолжается, – произнес, будто проснувшись, Горький. – Я думаю… Я думаю, что надо приступить к чаю. А то самовар простынет. – И обращаясь к домохозяйке, застывшей у двери: – Липочка! Вели убрать лишнюю посуду и подать чашки.
– Хорошо, Алексей Максимыч. Сейчас сделаем, – встрепенулась Липа, отделившись от стены.
Но в это время дверь медленно растворилась, и на пороге замерла Мария Федоровна, уцепившись обеими руками за косяк. Казалось, что она вот-вот сползет по дверному косяку, подобно какому-нибудь беспозвоночному существу.
Чуковский, продолжавший топтаться возле стола, кинулся к ней, подхватил под руку. С другой стороны – Липа. Вдвоем они довели Андрееву до дивана, усадили и замерли над нею истуканами.
– Что там? Что? – не выдержал Алексей Максимович, нависая над столом.
– Ленин… – пролепетала Мария Федоровна.
– Что – Ленин? Что? – кинулся к ней Крючков.
– Ранили… в Москве… Вчера вечером… Две пули… сказали – отравленные… Сказали… – и зарыдала, закрыв лицо руками.
Двойное покушение в один и тот же день говорило о тщательно подготовленном заговоре. А еще о том, что с минуты на минуту действительно начнется нечто ужасное.
Закурив вторую или третью папиросу, раскашлялся, зажимая рот платком, Горький. Кашляя, будто лая, он вышел из-за стола, направляясь к окну, отмахиваясь свободной рукой, точно за ним тянулся рой надоедливых мух.
Липа и Крючков увели Андрееву. За ними последовали ее дети. Бесшумными тенями исчезла супружеская пара Романовых. Стараясь не стучать стульями и не топать, прошмыгнули в дверь художники.
Макс, как ни в чем ни бывало, налил из самовара в чашку кипятку, добавил из заварного чайника, сел за стол, положил из хрустальной вазы в розетку брусничного варенья – все это молча, не глядя по сторонам, – стал пить чай.
Чуковский пожимал плечами, не зная, на что решиться: остаться или уйти.
Горький, откашлявшись, вернулся к столу. Судя по тому, что он, сев возле самовара, механически последовал за своим сыном, а затем, спохватившись, отставил пустую чашку в сторону, масштабы случившегося постепенно стали прорисовываться в его сознании.
– Так я пойду? – робко спросил Чуковский, опустив челку на самые глаза. А то дома будут волноваться…
– Что? Ах, да! Да-да! Конечно! Что-то я хотел у вас спросить, – заговорил Горький, вращая на столе пустую чашку. – Вы не знаете, что там говорят? Я имею в виду улицу. Ну и – вообще.
– Да как вам сказать, Алексей Максимыч. Народу на улице почти нет. Народ боится нос на улицу показывать: мало ли что. Но краем уха я слыхивал, что вроде бы хватают людей в качестве заложников. Всех подряд. Еще говорят, что сегодня будет митинг на Путиловском. Все, знаете ли, как-то потаенно и тревожно. Даже на тумбах нет ни одного нового объявления. Все – вчерашние. Еще – будто бы объявлен комендантский час. Короче говоря, мрак и полная неизвестность.
– Да-да-да! Да! Именно так и есть: мрак и неизвестность. Что поделаешь… Что поделаешь… – бормотал Горький, уставившись в одну точку на противоположной стене.
Чуковский исчез незаметно. Даже не попрощавшись. Почти на цыпочках покинул столовую Макс.
Вошла Варвара Васильевна, приблизилась к Горькому.
– Пойдем, Алешенька, пойдем. Что тут сидеть-то? А чаю я тебе сделаю и принесу в кабинет, – ворковала она. – Ну, застрелили и застрелили. Теперь уж не воскресишь. Да и зачем? У этого Урицкого руки, небось, по локоть в крови. Ее уж и не смыть ничем. Пускай еврейский бог с ним и разбирается. А у нас своих забот хватает.
– Да-да! Ты, как всегда, права, – бормотал Горький, шаркая по давно не крашеным доскам пола подошвами домашних гамаш.
А в голове билось, как птичка в клетке, что-то совершенно неопределенное: «Да, Урицкий – это… это черт знает что! В то же время на его совести многие ученые, писатели, поэты. Вот и великие князья… Один поэт, другой – ученый, третий – общественный деятель… Под сурдинку может и их… того самого… Впрочем, его же застрелили! Вчера! – спохватился Алексей Максимович, тщетно пытаясь распутать клубок причин и следствий. – Зато у Зиновьева – руки развязаны полностью. Тем более что Ленин… Впрочем, он – из того же ряда. Но – с другой стороны – как бы и в стороне. Или – даже! – над всеми. А в целом – все это противоречит самой жизни, заставляет думать, что…»
В дверь постучали.
Варвара замерла с чашкой чая в руках.
Горький тоже с удивлением уставился на дверь.
Им обоим казалось: после того, что сообщил Чуковский, жизнь должна остановиться, замереть в ожидании решения, способного урегулировать все сложные проблемы, или, лучше сказать – самоурегулироваться без вмешательства человека.
– Да! – воскликнула Варвара, с испугом посмотрев на Горького, полулежащего в покойном кресле, выставив острые колени, будто укороченного в росте, такого беззащитного и даже жалкого.
Дверь отворилась, вошла Андреева.
– Алексей Максимыч! – обратилась к нему Мария Федоровна, прикрыв за собой дверь, не глядя на Варвару. – Я к тебе по делу. По срочному делу.
Ее лицо все еще отражало трагизм полученных сообщений, однако голос был тверд и решителен.
– Да-да, Маша! Я вот тут… несколько… Однако чувствую себя вполне, так сказать… А что, собственно, случилось?
– Надо поговорить, – повторила Мария Федоровна. – Это очень важно.
И в ожидании посмотрела на Варвару.
– А-а, ну да… Я-ааа… Мне надо на кухню… Я пойду, пожалуй? – повернулась она к Горькому.
– Да-да! Иди, Варюша! Иди! Не беспокойся. Мы попозже… Все это… Кстати, посмотри там, что Макс… – говорил Горький, делая рукой выталкивающие жесты.
Мария Федоровна придвинула стул к креслу, в котором ворочался Алексей Максимович, явно чувствующий себя не в своей тарелке. Она села, распустив сборки широкой юбки, и вскинула свою царственную голову, обрамленную золотисто-рыжими волосами. Так она делала всегда, прежде чем начать серьезный разговор.
Варвара Васильевна с порога оглянулась, обреченно вздохнула, зная, какое влияние продолжает оказывать на ее подопечного Андреева. Сейчас ей особенно хотелось присутствовать при разговоре этих людей, чтобы хоть как-то смягчить давление бывшей жены на бывшего мужа. Она была уверена, что обожаемому Алешеньке от этого давления не поздоровится.