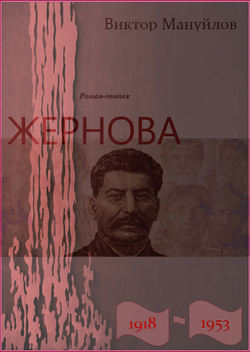Читать книгу Жернова. 1918-1953. Книга восьмая. Вторжение - Виктор Мануйлов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 29
Глава 1
ОглавлениеАлексею Петровичу Задонову позвонили утром 23-го июня из газеты «Правда», когда война шла уже второй день, и сообщили, что он включен в штат редакции в качестве её военного корреспондента и должен 25-го явиться к главному редактору для получения задания.
– Если у вас возникнет необходимость отлучиться из дому, оставьте ваши координаты, – произнес категорически басовитый голос, и тотчас же прозвучал отбой.
«Так, – сказал себе Алексей Петрович, положив трубку. И еще раз повторил: – Та-ак, значит», – не придавая своим словам никакого смысла, но чувствуя себя растерянным, подавленным и даже обиженным. Он еще как следует не проснулся после ночного бдения над рукописью романа, голова была пуста, казалось, что в ней что-то настойчиво и прерывисто звенит, как звенит пустое оцинкованное ведро, опускаясь в бездну глубокого колодца, ударяясь о его стенки. Но более всего пустота и звон были следствием категорического тона. Еще оттого, что не спросили и не посоветовались с ним, решив все за него. Оттого, наконец, что Алексей Петрович не представлял себя на фронте, не знал, что он там будет делать и о чем писать. Его опыт военного корреспондента во время финской кампании ничего не прибавил к тому опыту, что он имел как корреспондент сугубо гражданский. Более того, ни один из репортажей, отосланных им в политуправление армии, так и не увидел света, и никто ему не объяснил, чем они не угодили политорганам и цензуре.
Причину непечатания Алексей Петрович уразумел потом, когда все кончилось, когда он, вооружившись подшивками, перелистал все центральные газеты военного времени: он писал не то и не так, как требовалось, не уяснив до конца военную специфику, легкомысленно отнесясь к требованиям, которые казались ему необязательными для писателя такого ранга, как Алексей Задонов. Он был слишком самонадеян и поплатился за эту свою самонадеянность.
Из того, что в декабре 1939-го и начале января 40-го печатали газеты, в том числе и «Правда», трудно было понять, что творится на фронтах боев с белофиннами, почему Красная армия топчется на месте и какие меры принимаются для того, чтобы это топтание переросло в активные победоносные действия. А когда оно таки переросло, то газеты начали захлебываться от восторга, прославляя эти действия и отдельных рядовых ее участников. Размашистый стиль журналиста и писателя Задонова, при всей его опытности, никак не вписывался ни в освещение беспомощного топтания перед финскими укреплениями, ни в тот восторг, который сам для себя Алексей Петрович окрестил как «восторженную истерию».
Порассуждав над всем этим на досуге, он пришел к выводу, что и слава богу, что его не печатали: печатание могло для него кончиться весьма худо. Но обида осталась, легла нерастворимым осадком на душу, заставляя Алексея Петровича всякий раз повторять одно и то же: «Ну и ладно! И подите вы все к черту! И больше я для вас ни слова, ни полслова!» Но вот позвонили из самой «Правды» – и что? А ничего, то есть все то же самое: гимнастерка, шинель, сапоги – и вперед! А еще этот звонок означает, что репортажи его все-таки читали и оценили.
Между прочим, в одном из его репортажей было и несколько строк о том, как начальник Главпура Красной армии комиссар первого ранга Григорий Мехлис возглавил атаку батальона на позиции белофиннов, как вернулся из боя в продырявленной в нескольких местах шинели, с лицом, черным от копоти, и с наганом, в котором не осталось ни одного патрона. Вот только написано про этот подвиг было с междустрочной иронией и даже с издевкой, в чем тогда многие упражнялись не без успеха, но, насколько это было известно Алексею Петровичу, нигде и ни единым словом об этом возглавлении атаки не упоминалось, хотя, надо думать, ни один лишь Задонов пытался отличиться за счет всесильного Мехлиса.
Теперь, когда с той поры миновало более года, собственные писания о войне казались Алексею Петровичу мелкими, надуманными, далекими от действительности. А как надо писать о войне, он так и не решил, да и нужды в таком решении не видел. Возвращаясь в начале марта сорокового из Ленинграда в Москву, он еще в поезде переоделся в гражданское платье, в котором отправился на войну, и почувствовал облегчение, оказавшись в привычной для себя штатской шкуре. Он засунул гимнастерку и штаны, от которых воняло потом, в чемодан, шинель завернул в кусок холста и перевязал веревочкой. Лишь хромовые сапоги не на что было поменять, потому что войлочные бурки его, в которых он приехал в Ленинград, попросту сперли из четырехместного номера гостиницы, где кто только не живал, пока он шлялся по фронтам и штабам, наблюдая малопонятную для него армейскую действительность.
Из этой действительности Алексей Петрович вынес убеждение, что в ней толчется слишком много всякого невоюющего народу, и чем дальше от передовой, тем этого народу больше, тем менее он симпатичен, тем меньше среди толкущихся настоящих работников, тем больше говорунов и прожектеров, а настоящих-то даже и не видно за этими говорунами и прожектерами, и только поэтому армия оказалась столь позорно неготовой к настоящей войне.
И вот теперь снова ему предстояло окунуться в армейскую действительность, которую, на взгляд Алексея Петровича, трудно назвать жизнью, так в ней все искусственно и противно человеческому существованию. Тем более что он, сугубо гражданский человек, совершенно к этой действительности не приспособлен, и как только окажется в ее тенетах, так непременно с ним случится что-то страшное по своей огромности и бессмысленности. И потом… роман – что же с ним-то делать? Забросить? Но за него, Алексея Задонова, никто этот роман не допишет, а без этого романа русская литература будет неполной…
Ну да, разумеется – война. В том смысле, что когда говорят пушки, музы должны молчать. Но это – смотря чьи музы. Лично он, как ни был потрясен сообщением о начале войны, ночь с 22-го на 23-е сидел за столом, не сразу, правда, но сосредоточился на своей теме и четыре страницы все-таки написал. И очень хорошие страницы. Может быть, именно потому, что война, когда все чувства обострены и прошлое видится под другим углом зрения, в других красках и мелодиях.
– Кто звонил? – спросила Маша, входя в спальню и останавливаясь в дверях, и во всей ее фигуре сказался этот тревожный вопрос, тревожный потому, что в такую рань Алексею Петровичу звонили очень редко, считанные разы, и всегда эти звонки были связаны с какими-то резкими переменами в его жизни, а Маша боялась всяких перемен, как плохих, так и хороших. Тем более резких. Ожидая ответа, она смотрела на своего мужа с нежностью и жалостью, как смотрела на своих детей, если кто-то обижал их за пределами дома. Маша была искренне убеждена, что ее Алеше в тысячу раз труднее в новой обстановке, вызванной войной, чем ей и всем остальным людям, и готова была защитить его, только не знала, как это сделать.
Впрочем, она вообще не знала, как и что надо делать, кроме узкого круга домашних забот. Она вышла замуж за Алексея Задонова тепличным цветком, отгороженным от ветров и морозов российской жизни: отчий дом, гувернантки, женская гимназия для избранных, почти монастырь по строгости нравов и воздержанию, затем институт благородных девиц и практически сразу же замужество. Она принесла себя в жертву своему мужу и детям, не думая о жертвенности, и если бы кто-то сказал ей об этом, изумилась бы и испугалась, потому что не знала другой жизни, другой жизни не знали ее мать, ее бабки, свекровь и вообще большинство женщин ее круга.
Алексей Петрович поднял всклокоченную со сна голову, посмотрел на жену, замершую у порога спальни. Он не впервой обратил внимание на то, что Маша за последние годы несколько располнела, хотя в ней еще сохранились остатки девичьей стати и той милой застенчивости, которая так иногда трогала, а иногда злила его и толкала, как он в этом себя убеждал, в объятия других женщин, хотя знал, что толкает его нечто другое, зато так удобнее сваливать свои грешки на жену. Он и эту несправедливость по отношению к Маше знал за собой, и тоже считал маленьким грешком, чтобы прощать себе все и подтрунивать над собой в минуту благодушного настроения. Зато он знал точно, что как бы он и не грешил, а Машу никто ему не заменит, и сам он не помышлял о подобной замене.
Алексей Петрович сидел на постели в ночной пижаме, не выспавшийся, удрученный неожиданно свалившейся на него напастью. В конце концов, ну – война, ну – немцы! Ну и что? Этого ждали, это было неизбежным. Он-то тут при чем? Если нужны писатели, чтобы писать о войне, так их сколько угодно среди молодых: только свистни, допусти их до фронта, такого понапишут, что мертвые в гробу перевернутся. А если советской власти нужна жизнь писателя Алексея Задонова, так пусть эта власть даст ему винтовку и пошлет в окопы – все будет больше пользы, чем от его писаний, которые никто не станет печатать.
Обида годичной давности вновь всколыхнулась в Алексее Петровиче, умножилась новой обидой и затуманила голову.
– Кто звонил? – переспросил он, с трудом отрываясь от своих расплывчатых мыслей и ощущений. – Из «Правды» звонили, мой ангел. Я включен в штат этой газеты по штатам военного времени… Тьфу ты, черт! – зарапортовался! – воскликнул Алексей Петрович в сердцах и потянулся к стакану с недопитым чаем. Сделав пару больших глотков, шумно выдохнул воздух, попросил: – Собери меня на всякий случай в дальнюю дорогу. Ну, как обычно. И, пожалуйста, без этого… без слез. Ну – война, ну и что? Был я на войне – и ничего: вернулся целым и невредимым. Бог даст, и с этой вернусь. Может, и доехать не успею, как все кончится.
Маша с трудом справилась со своим лицом, на котором отразился весь ее ужас перед неизвестностью и страх за своего обожаемого мужа. И только после этого она вспомнила о детях:
– А как же Ваня и Ляля? Куда я с ними? – пролепетала она.
– Как куда? Вот странность, прости господи. Да никуда. Все остается по-старому. С той лишь разницей, что я еду в командировку на войну. Разве я впервой еду в командировку? Нет. Ну да, я давно не ездил, ну так что? Съезжу еще разок-другой. Война – она где? У черта на куличках. Тебе беспокоиться нечего. Буду писать, буду звонить. Все как обычно. Да. Ну, иди, ангел мой, иди. Я еще чуть полежу, проснусь окончательно и приду, а то ночь, сама знаешь…