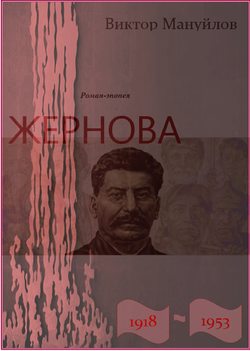Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга тринадцатая. Обреченность - Виктор Мануйлов - Страница 1
Часть сорок седьмая
Глава 1
ОглавлениеАлександр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением.
Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей. Теперь для работы оставалось небольшое пространство возле одного из двух венецианских окон, второе отошло к жилым помещениям. Но Александр не жаловался: другие и этого не имеют.
Потирая обеими руками поясницу, он отошел от холста. С огромного полотна на Александра смотрели десятка полтора людей, смотрели с той неумолимой требовательностью и надеждой, с какой смотрят на человека, от которого зависит не только их благополучие, но и жизнь. Это были блокадники, с испитыми лицами и тощими телами, одетые бог знает во что, в основном женщины и дети, старики и старухи, пришедшие к Неве за водой. За их спинами виднелась темная глыба Исаакия, задернутая морозной дымкой, вздыбленная статуя Петра Первого, обложенная мешками с песком; угол Адмиралтейства казался куском грязноватого льда, а перед всем этим тянулись изломанные тени проходящего строя бойцов, – одни только длинные косые тени, отбрасываемые тусклым светом заходящего солнца.
Картина, скованная морозом и сосредоточенным молчанием людей, была настолько жуткая, что Александру порой казалось, что он рисовал это с натуры, что он знал поименно этих людей, оживших на его полотне, что никуда не уезжал из города, голодал и умирал вместе с ними. А еще в нем крепла уверенность, что эта обнаженная правда ушедшего времени, пугающая его самого, еще больше может испугать тех, от кого зависит, увидит это полотно зрителя, или нет.
Он работал над этим полотном больше двух лет, и сейчас, когда картина была закончена, не мог с точностью сказать, что же он хотел ею выразить. Блокаду? Да, конечно. Трагедию людей, гибнущих от голода и холода, от бомбежек и артобстрелов? Да, и это тоже. Но не это самое главное. Главное заключалось в чем-то другом, и это что-то не давалось назваться каким-то определенным именем, оно вмещало в себя слишком много – даже больше, чем война, выходя за рамки картины, распространяясь во все стороны в неохватные глазом дали…
Глухо хлопнула входная дверь, деревянные ступени лестницы весело откликнулись на топот детских ног. Звонко стукнула еще одна дверь, на сей раз коридорная, и стало слышно, как шумят и возятся возвратившиеся из школы дети, как жена выговаривает им за это: папе работать мешать нельзя.
Александр улыбнулся, опустился в глубокое кресло. Он чувствовал себя безмерно уставшим, но досаждала ему не усталость, а странное ощущение незавершенности работы, и он снова и снова вглядывался в картину, пытаясь понять, в чем же эта незавершенность заключается. В том, что он не изобразил шагающих по улице бойцов? Но в одном из вариантов он их изобразил и поразился тому, насколько эти бойцы отличаются от жителей блокадного города. Получалось, что эти изможденные голодом люди смотрят на бойцов не столько с надеждой, сколько с удивлением: вот ведь, оказывается, есть в этом городе сытые, сильные, способные так свободно двигаться, таким ровным и ничем не стесненным шагом. В их взглядах не было зависти, зато обреченность сквозила во всем. Поэтому Александр и убрал шагающих бойцов, оставив одни лишь их тени. И картина даже выиграла от этого: исчезла обреченность, засветилась надежда. Но что-то существенное осталось недосказанным. И Александр, отрешившись от полотна и вернувшись к реальности, думал теперь, что все дело в том, что сам-то он блокаду не переживал, не голодал вместе со всеми, не испытал тех чувств, которые испытали нарисованные им люди. Так что же получается – два года напрасного труда? Или ему только кажется, что в картине чего-то не хватает? Наверное, так оно и есть. Надо отвлечься от нее, поставить лицом к стене и заняться новой работой. Но картина держала его и не отпускала.
Дверь в мастерскую тихонько отворилась, и Александр услыхал тихие и робкие шаги своей девятилетней дочери. Вот она подошла и остановилась сзади, не решаясь нарушить его молчание.
– Тебе чего, Аленушка? – спросил Александр.
– Мама зовет обедать, – шепотом ответила дочь.
– Иди ко мне, – протянул он ей руку.
Девочка приблизилась и встала рядом. Она поразительно была похожа на него, своего отца, и Александр всегда с некоторым удивлением вглядывался в ее черты. Дочь вложила в его руку свою ладошку, он поставил ее напротив, спросил:
– Как дела в школе, малыш?
– Хорошо, папочка. Я получила пять по арифметике и четыре по рисованию. – И пояснила: – У меня никак не получается лошадка.
– Ничего, малыш, подрастешь – получится. Да и четверка тоже хорошая оценка. Я вот картину нарисовал и боюсь, что на троечку.
– На троечку? Вот и не правда! У меня так никогда не получится, – покачала головой Аленка, вглядываясь в картину. Пожаловалась: – Мама говорит, что у меня нет способностей к рисованию. Она говорит, что ты пожалел и не оставил для нас ни капельки, все взял себе.
– Мама шутит, малыш, – улыбнулся Александр, привлекая дочку к себе и испытывая сладкое чувство отцовства от ощущения тепла родного тела, передающегося ему. – Ты еще научишься рисовать. Вот увидишь, – произнес он с уверенностью.
Затем поднялся, снял с себя испачканную красками куртку и, держа ребенка за руку, пошел в столовую, где вокруг обеденного стола уже сидели его дети: два сына, учащиеся девятого и восьмого класса, и младшая дочь пяти лет, родившаяся в эвакуации на Алтае. Отсутствовали самые старшие, двойняшки-десятиклассники: у них там какое-то мероприятие по комсомольской линии.
Аннушка разливала по тарелкам суп. Она располнела, раздалась в ширь, как и положено женщине, родившей шестерых детей, но не утратила мягкого очарования больших серых глаз и овального лица, излучающего готовность придти на помощь любому из сидящих за столом.
– Та-ак, что у нас сегодня на обед? – задал Александр обычный свой вопрос, заглядывая в тарелку. – Суп с фрикадельками? Оч-чень хорошо. Давно мы не ели суп с фрикадельками. Или я ошибаюсь? – И посмотрел на старших.
– Как всегда, папа, – смиренно ответил старший. – Вчера тоже был суп с фрикадельками.
– Поразительно, – смущенно пробормотал Александр, помешивая ложкой в своей тарелке.
Он хотел было сказать, что в блокаду за тарелку такого супа отдавали фамильные драгоценности, картины великих мастеров прошлого века, что находились люди, которые могли оторвать от себя, без всякого ущерба, не только тарелку супа, но и кое-что посущественнее. И это в городе, умирающем от голода. Но не сказал. Не исключено, что он уже говорил об этом, а если и не говорил, то лучше и не касаться этой темы при детях: в свое время узнают, а пока… И без того хватает такого, что лучше бы и не знать…
Так чего же все-таки нет в его картине?
После обеда Александр часок вздремнул на диване в мастерской, затем оделся и вышел из дому. Он шел по Невскому к Неве, затерявшись в текучей толпе, ничем в ней не выделяясь. Вглядываясь в лица спешащих по своим делам людей, в лица озабоченные и в большинстве своем женские, он по каким-то неуловимым признакам угадывал тех, кто никуда из Ленинграда во время войны не уезжал, вынес на своих плечах весь ужас блокады, наблюдая, как умирают близкие люди, чувствуя свою беспомощность. В их глазах навеки застыла мука пережитых месяцев и дней, и трудно было понять, откуда они черпали и черпают до сих пор силы, чтобы жить.
А природа творила свой извечный круговорот, и ничто человеческое не отражалось на плывущих в небе облаках, сияющем солнце, разве что в терпком весеннем ветре, тянувшем со стороны залива, да сильнее чувствовался дым кораблей, стоящих в устье Невы. Но весна подавляла все. Она торжествовала в набухающих на березах и липах почках, в гомоне воробьев, в криках чаек, в перещелкивании и пересвистывании скворцов в садах и скверах, в синеве неба, в пыхтении на Неве ледокола, ломающего лед. И даже во взглядах и лицах людей, полнящихся новыми надеждами, в звонких криках детей в Александровском саду.
Возницын вышел к Неве, остановился на том месте, откуда писал эскизы для своей картины: панорама Сенатской площади, «Медный всадник», Адмиралтейство, Исаакий… Сами по себе они не несли ничего трагического. Трагизм исходил от людей, от санок с бидонами для воды, от бессильно опустившейся на сугроб женщины, от распахнутых глаз девочки на испитом лице, закутанной в материнский платок, от молодой и пожилой женщин, пережидающих колонну, везущих на кладбище чей-то труп, завернутый в зеленое покрывало… Он видел такие картины на многочисленных фотографиях, в кинохронике тех лет. А еще он знал, что такое голод, но тот голод, испытанный им в детстве, все-таки был не таким голодом, как в блокаду.
Сколько раз он приходил сюда и в прошлую зиму и в эту, выбирая самые морозные дни, торопливыми мазками писал эскизы, отыскивая такую точку, чтобы каждый, глянув на картину, мог сразу же понять, что это Ленинград – и никакой другой город. Сколько раз возле него останавливались люди, самые разные люди, и именно тогда он научился угадывать, кто из них пережил блокаду, а кто, как и он сам, жил вдали от Ленинграда, не испытывая всего, что пережили эти люди и сам город.