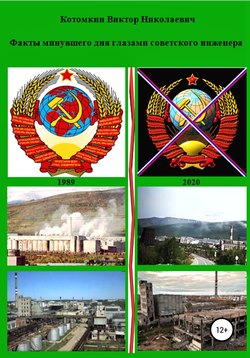Читать книгу Факты минувшего дня глазами советского инженера - Виктор Николаевич Котомкин - Страница 12
Крайний Север, производственное объединение «Апатит»
Отдел главного энергетика ОАО «Апатит»
ОглавлениеМне в очередной раз, после Белгорода, повезло со старшим наставником. На этот раз это был Григорий Михайлович Чекрыгин. Он был лет на семнадцать старше меня и довольно давно работал в службе главного энергетика. Григорий Михайлович застал ещё тот период, когда приходилось ездить по многочисленным энергетическим объектам на конной упряжке, закреплённой за отделом. Он предоставил мне все возможности для профессионального роста, не принуждая засиживаться в кабинете. Наоборот, Чекрыгин поощрял мои инициативы во всех вопросах и давал возможность посещать различные объекты. Он направил меня общаться с высококвалифицированными специалистами по наладке котлов из пуско-наладочной организации. У нас обнаружились и общие интересы. Григорий Михайлович был сильным шахматистом. Я вписался в шахматный коллектив Управления, который всё свободное время, в обеденных перерывах, посвящал шахматной игре в блиц-партиях. Наша команда тогда была сильнейшей в объединении. Уволившись из «ЖКУ», я продолжил заниматься основными проблемными вопросами теплоснабжения жилфонда. Помимо этого в мои новые обязанности стали входить вопросы наладки тепловых сетей на всех объектах объединения «Апатит», а также оптимизации работы котельных. В цеховых службах не было теплотехников, и там накопилось много вопросов моего профиля. Новая работа в отделе главного энергетика объединения полностью соответствовала моему образованию и мне очень нравилась.
В ведение цеха «Пароснабжения» входили котельные и тепловые сети, обогревающие Кировск, прилегающие посёлки и рудники, за исключением мелких котельных «ЖКУ». Всего в цехе «Пароснабжения» тогда было 6 котельных, в которых установлено 32 котла общей производительностью 650 Гкал/час. Котельные работали на мазуте. Это предъявляло более высокие требования к эксплуатации, чем при работе на газе, и доставляло дополнительные хлопоты персоналу. Чаще всего я посещал котельную Кировска, самую мощную на тот период времени. Раньше она была первой тепловой электростанцией на Кольском полуострове. Но, после ввода в эксплуатацию «Кировской ГРЭС» турбины в котельной демонтировали. На меня очень благоприятное впечатление произвёл начальник цеха, Валентин Филиппович Чепурин. Это был очень профессиональный, требовательный специалист, обеспечивший качественную бесперебойную работу всего теплоэнергетического хозяйства. Рабочий день он начинал с обязательного обхода котлов в котельной Кировска, проверки, как отрегулированы горелочные устройства, должным ли образом выглядят факелы в топках. Затем беседовал со старшим оператором смены, после чего, получив необходимую информацию, шёл в кабинет и проводил планёрку с ИТР. При нём был порядок и высокий профессиональный уровень эксплуатации. Наладку котельного оборудования проводили специалисты пуско-наладочного управления из Балашихи. Меня приставили к ним в качестве помощника, и я получил возможность научиться методам режимной наладки котлов. Приобретя необходимый опыт и нужное оборудование, я вместе с коллегой из отдела Евгением Павловичем Глинкой начал сам выполнять эту работу. Мы составляли режимные карты после выполнения капитальных ремонтов котлов и выявляли, на каких режимах работы они наиболее эффективны.
Я, продолжая интересоваться передовым опытом эксплуатации теплового оборудования в стране, узнал, что в Риге на заводе «ВЭФ» имени В. И. Ленина были автоматизированы системы вентиляции. Завод был удостоен Государственной премии СССР за массовое производство продукции высшего качества. Транзисторные радиоприёмники «ВЭФ» первыми в мире имели гарантийный срок три года. Например, транзисторные приёмники немецкой фирмы «Грундик» имели гарантийный срок всего три месяца. Приёмники «ВЭФ» были очень популярны в Советском Союзе. Юные владельцы любили их выносить на улицу и громко транслировать понравившиеся мелодии. В те же годы в Орле начали производить регуляторы для тепловых пунктов. Их даже установили в Москве на Новом Арбате в знаменитых зданиях-книжках. Сначала я посетил Ригу и ознакомился с оборудованием на заводе «ВЭФ». Затем с коллегой по автоматизации посетил завод в Орле. В заводском теплоцентре были смонтированы эти регуляторы, и коммерческий представитель завода, демонстрируя их, рассказывал потенциальным покупателям прелести регуляторов. Я, посмотрев запись самопишущих приборов, усомнился в том, что автоматика работает. Поэтому, не дослушав лектора, направился к коллегам в отдел главного энергетика, эксплуатирующим это оборудование. Я поделился своими сомнениями, и они откровенно рассказали реальную ситуацию. Оказалось, что регуляторы «не доведены до ума», а в «рекламных зданиях» в Москве постоянно сидит квалифицированная группа слесарей, обеспечивающая их работоспособность. Поняв реальную ситуацию, от покупки приборов мы отказались. К сожалению, уровень отечественных средств автоматизации был очень не высоким.
Работая в отделе главного энергетика, мне представилась возможность контактировать с научными и проектными организациями. В первую очередь это был Институт физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра Российской Академии Наук, проектные институты «Механобр» и «Гипроруда», и другие организации. В СССР очень сильно была развита отраслевая наука. При ведущих министерствах создавались специализированные отраслевые научные организации. Они обеспечивали, как методическое руководство текущей деятельности предприятий своих отраслей, так и внедрением в производство передовых достижений науки. Техническим специалистам в текущей работе очень помогали методические материалы, подготовленные в таких научных организациях. Учёные отраслевых институтов были призваны оказывать техническую помощь предприятиям, внедрять нововведения, повышающие эффективность производства. Они помогали внедрять новые технологии и оборудование, первоначально разработанные в оборонном комплексе. Мне довелось общаться со многими учёными и специалистами таких организаций.
Интересным было сотрудничество со специалистами «Атомпроекта». Они рассматривали варианты расширения «Кольской Атомной Электростанции». Один из вариантов предусматривал создание на её базе атомной теплоэлектроцентрали. Она должна была вырабатывать как электрическую, так и тепловую энергию. В те годы это было популярное направление использования энергии атома. Подобные проекты предусматривались, например, для города Горький (Нижний Новгород) и для Мурманска. При работе АЭС образуется большое количество сбросного тепла, которое теоретически можно использовать для теплоснабжения населённых пунктов. В случае принятия такого варианта за основу, можно было существенно сократить поставки угля и мазута и существенно улучшить экологическую ситуацию. Но, были нужны крупные потребители тепловой энергии. «КАЭС» размещалась в 10 км от посёлка Полярные Зори и в 35 км от города Кандалакша. Их тепловых нагрузок проектировщикам не хватало для обоснования варианта. Поэтому, они приехали к нам с целью изучения потребностей в тепловой энергии. Для меня была странной сама идея подачи тепла в Кировск от «КАЭС». Расстояние между объектами было больше 70 км. С учётом особенностей местности протяжённость трассы получилась ещё больше. Но, проектный институт работу выполнил, издав три солидных тома технико-экономического обоснования. С моей помощью были подсчитаны все тепловые нагрузки, определены предварительные места прокладки теплотрасс и сделано технико-экономическое обоснование. Конечно, на такой трассе были бы большие тепловые потери. Не знаю, это ли повлияло на принятие решения, или негативные отношения к атомной энергетике после Чернобыльской катастрофы. Но, вариант теплоснабжения Кировска от «КАЭС» не был одобрен. Она расширялась в традиционном варианте. В те же годы учёными «Кольского Научного Центра» оценивались возможные выгоды от варианта теплоснабжения Кировска от «Апатитской ТЭЦ». Но, это было только на уровне научных статей и перспектив не имело. Ведомственная разобщённость, неясные экономические выгоды и разные интересы сторон («Апатит» и «АТЭЦ») препятствовали глубокой проработке такой возможности.
Что касается работы именно в отделе главного энергетика, то в мои обязанности входило нормирование потребления воды, тепла и топлива цехами объединения, а также составление отчётов для Министерства. В связи с тем, что потребность объединения «Апатит» в энергии была огромной, энергопотребление и расходование воды на технологические процессы контролировались Министерством химической промышленности. Это осуществлялось путём установления лимитов потребления и постоянного жёсткого контроля. При этом я столкнулся с неожиданными показателями. Удельные расходы всех видов энергетических ресурсов на обогатительной фабрике «АНОФ-1», построенной в 1931 году в Кировске, оказались заметно лучше, чем на современной фабрике «АНОФ-2», которая была введена в эксплуатацию в 1963 году и продолжала модернизироваться в 70 годы. На «АНОФ-1» я налаживал систему теплоснабжения, поэтому, хорошо знал ситуацию. Фабрика была спроектирована в конце 20-х годов в очень компактном исполнении. Это объяснялось как ограниченностью отведённой промплощадки, так и ограничением в энергетических ресурсах. В этих условиях проектировщики смогли найти очень экономные технические решения. Все инженерные коммуникации были небольшой протяжённости, а кирпичные стены и совмещение нескольких основных переделов в одном корпусе способствовали экономии тепловой энергии. По этой же причине вентиляционных установок тоже было не много. Фабрика была очень удобно размещена, в непосредственной близости от котельной, на берегу озера Большой Вудъявр, из которого брала воду. Хвостовое хозяйство, куда сбрасывалась пульпа (смесь породы с водой, после извлечения из неё апатита) располагалось значительно ниже фабрики, поэтому перекачка пульпы не требовала больших затрат электроэнергии. Вакуумные фильтры были барабанной конструкции и хорошо отжимали концентрат перед сушкой. Это способствовало экономичному расходу мазута в сушильных барабанах. В конце 90-х годов у меня была возможность посетить несколько горных предприятий в Швеции. Они были спроектированы подобным образом, и расходы энергии на тонну продукции были в 3–4 раза ниже, чем в объединении «Апатит». Возможно, при проектировании «АНОФ-1» использовался опыт Швеции, где была хорошо развита горная промышленность, или привлекались западные специалисты. Ведь, ещё в 18 веке царь Пётр I посылал в Швецию людей для изучения горного дела. В 20 годы СССР активно использовал знания иностранных инженеров. «АНОФ-2» проектировалась с конца 50-х годов и постоянно расширялась. Первоначальная мощность в 1,4 млн. тонн апатитового концентрата была увеличена в 10 раз. Проектировали промышленную площадку фабрики с размахом, создавая максимум удобств персоналу, и не обращая особого внимания на будущие потребности в энергии. Было построено много просторных корпусов на довольно большой территории. Комплекс зданий и сооружений «АНОФ-2» занял площадь 120 гектаров. Самым грандиозным стал корпус мельнично-флотационного отделения. Его длина 700 метров, ширина 150 метров и высота 45 метров. Фабрика была оснащена новым более совершенным и производительным оборудованием, специально созданным для неё. Для обогрева и проветривания этих корпусов было установлено большое количество систем приточной вентиляции, потребляющих значительное количество энергии. В период проектирования «АНОФ-2» на экономию энергии внимания ещё не обращали. Рядом строилась мощная тепловая электростанция. Дефицита энергоресурсов, какие существовали в период проектирования «АНОФ-1», не существовало. Энергопотреблением обеспокоились позже, в конце 70-х – начале 80-х годов. Причиной послужило то, что в предыдущие годы были введены в эксплуатацию многие тысячи промышленных предприятий и построено огромное количество многоэтажных жилых домов и социальных объектов. Добыча топлива становилась всё труднее. Поэтому КПСС и Правительство предприняли ряд шагов, стимулирующих бережное отношение к топливным ресурсам и энергии. Процессы контролировал Госплан. Он требовал от отраслевых министерств и крупных предприятий разработку и реализацию планов по экономии топливно-энергетических ресурсов. Министерства при утверждении норм и лимитов соответственно требовали от предприятий ежегодного снижения энергопотребления. Согласно решениям XXVI съезда КПСС до 90 % стоимости сэкономленных топлива и энергии оставляли в распоряжении предприятий. Часть этих средств расходовалась на поощрение персонала, добившегося экономии энергетических ресурсов. Предприятия были обязаны отчислять в Фонд развития производства до 35 % стоимости сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на реализацию мероприятий по их экономии и утилизацию вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Стало поощряться строительство объектов, направленных на экономию ТЭР и утилизацию ВЭР. Это была эффективная государственная политика, направленная на повышение энергетической эффективности в промышленности. Мы разрабатывали мероприятия, которые были направлены на достижение этих целей, направляли их в министерство, а потом отчитывались перед ним об их выполнении.
Энергетическая служба на горно-обогатительном, да и на любом промышленном предприятии является вспомогательной, обеспечивающей ведение главного процесса. Ведущую роль играют представители профильных специальностей. В нашем случае это были обогатители и горняки. Они определяли техническую политику предприятия. Их интересы подчас не совпадали с генеральной линией Министерства на постоянное снижение энергопотребления. По ряду позиций горняки и обогатители были правы, поскольку ухудшались горно-геологические условия, руды становились более бедными, что объективно повышало потребность в энергетических ресурсах. Кроме того, технологи занимались повышением качества концентратов, более эффективным извлечением полезных компонентов из руды. Например, они внедряли новые, эффективные с технологической точки зрения реагенты, требующие более высокой температуры воды. А значит, требовалось увеличивать потребление тепловой энергии от «Апатитской ТЭЦ». В сушильном переделе внедряли дисковые вакуум-фильтры и фильтроткани, более эффективные, по их мнению, но вызывающие увеличение расходов топлива. При этом технологи не заморачивались технико-экономическими обоснованиями своих мероприятий. Предлагая нововведения, они опасались подписываться под теми конкретными достижениями, которые они обещали дать. За это нужно было нести ответственность. Планируя свои мероприятия, они лишь показывали ожидаемые технологические преимущества, без учёта дополнительных затрат. Между энергетиками и технологами начинались трения, поскольку мы требовали точных технико-экономических расчётов, которые могли быть использованы нами для выполнения расчётов норм энергопотребления и увеличения лимитов. Добиться от министерства увеличения норм и лимитов было очень непросто. Нужно было подготовить убедительные доводы и расчёты-обоснования. Жёсткий контроль был установлен за потреблением топочного мазута. Заявки сначала согласовывались с министерством, а затем согласовывались с Госпланом, который утверждал удельные нормы расхода мазута на сушку концентратов и общие лимиты его потребления. Там тоже требовали от министерства предоставления убедительных доводов. Осознав сложившуюся ситуацию, технологи были вынуждены более ответственно подходить к нововведениям и предоставлять конкретные целевые показатели, используя которые, можно было разработать обоснования для министерства и Госплана. Работа по обоснованию норм потребления топлива тоже входила в мои обязанности. И, как правило, проблем с согласованием норм и лимитов не возникало.
Вместе с учёными Института физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ я занимался аналитикой, публиковал статьи в академическом журнале Научного Центра. Материалов для этого было достаточно. Директор Института И. Р. Степанов предлагал мне заняться научной работой с последующей защитой кандидатской диссертации. Потом были предложения и от других представителей науки, из Ленинграда, с которыми мне приходилось сотрудничать. Моя инженерная деятельность, результатом которой было множество рационализаторских предложений и изобретений, действительно имела основания для оформления кандидатской диссертации. Но, время на это я тратить не хотел. Я полагал, что лучше быть хорошим инженером, чем рядовым научным работником. К тому же, в то время в моём понимании, настоящими учёными могли считаться только люди, изучающие фундаментальные науки, и делающие новые открытия, а не те, кто занимался прикладными вопросами. Скорее всего, я был не прав, но тогда считал именно так.
В 1978 году мне потребовалось вновь вплотную заняться наладкой тепловых сетей. В те годы шла огромная работа по реконструкции горно-обогатительной фабрики «АНОФ-2». Строились мощности по производству нефелина, расширялись мощности по производству апатитового концентрата. Но, возникла большая проблема с «Колэнерго». Система теплоснабжения фабрики была полностью разрегулирована, температура обратного теплоносителя, возвращаемого на «АТЭЦ», была чрезмерно высокой, что запрещалось «Правилами пользования тепловой энергией». При превышении потребителем среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 3 градуса против температурного графика, теплоснабжающая организация имела право снизить отпуск или полностью прекратить подачу тепловой энергии потребителю. Этим правом они воспользовались, не разрешая вводить в эксплуатацию нефелиновое производство. У объединения «Апатит» и «Колэнерго», в которое входила «АТЭЦ», периодически возникали трения по вопросам электроснабжения. Речь всегда шла об очень больших деньгах. А теперь у «Колэнерго» появился мощнейший козырь, позволявший «прижать» «Апатит» и принудить идти на уступки, воспользовавшись буквой «Правил». Стройка была Всесоюзной ударной комсомольской, ход строительства был под контролем руководства страны. Назревал большой скандал. Персонал фабрики не мог справиться с ситуацией. Поэтому, главный энергетик объединения направил меня на фабрику для решения этой проблемы. Обследовав тепловые центры фабрики, я увидел печальную картину. Распределение теплоносителя между отдельными ветвями систем отопления обеспечивалось не с помощью дроссельных шайб, как это должно быть. А путём прикрытия запорных задвижек большого диаметра. Это категорически запрещалось, поскольку было не эффективно, и вдобавок приводило к износу уплотняющих колец самих задвижек. Стало понятно, что необходимо выполнять комплексную наладку всей системы теплоснабжения путём расчёта и установки дроссельных шайб. Эта было мне хорошо знакомо по предыдущей работе в Кировске. Я изучил доступную документацию, которой оказалось явно недостаточно. В проектной документации я нашёл тепловые нагрузки в целом по корпусам и частично по теплоцентрам. Для того чтобы выполнить наладку мне нужно было знать тепловые нагрузки не только каждого теплоцентра, но и по каждому ответвлению, идущему от теплоцентра на отопление тех или иных производственных площадей. Поэтому, для уточнения данных, пришлось обходить все фабричные корпуса, фиксировать количество и устройство отопительных элементов, сверять их с чертежами систем отопления, а затем рассчитывать их тепловые нагрузки и необходимые расходы теплоносителя. По многим вентиляционным системам тоже нужной информации найти не удалось, я был вынужден фиксировать типы калориферов, их количество и подсчитывать тепловые нагрузки. После этого я сделал расчёты всех тепловых установок и рассчитал гидравлический режим тепловой сети. Затем я рассчитал диаметры отверстий дроссельных шайб и выдал задания на их изготовление. Выполнение расчётов в те годы существенно отличалось от того, как их выполняют сегодня даже школьники. В те годы у меня, как у всех инженеров, единственным инструментом для выполнения расчётов оставалась логарифмическая линейка и простенький калькулятор. После выполнения расчётов предстояла главная работа – установка сотен дроссельных устройств (шайб) во всех цехах, а затем их корректировка, при необходимости. Местные «специалисты» встретили меня в штыки, они впервые вынуждены были заниматься такой работой, и явно этого боялись. Тем более заниматься этой работой их обязывал молодой незнакомый парень. Руководителями службы были люди в возрасте, из той же категории инженерных работников, которые из-за войны не смогли в своё время получить инженерное образование. Понять необходимость моих заданий им было сложно. Мастер участка, который должен был обеспечить эту работу, прихватив изготовленную шайбу, ходил жаловаться на меня главному инженеру фабрики Геннадию Николаевичу Смирнову. Ему в голову не могло прийти, что через маленькие отверстия в шайбах, диаметром несколько миллиметров, можно обеспечить нормальную работу систем отопления и вентиляции. Но, руководство фабрики доверяло мне, благодаря рекомендациям Чекрыгина. Начальник «АНОФ-2» Александр Дмитриевич Маслов был замечательный человек, и в близких отношениях с Чекрыгиным. Благодаря их доверию, я заставил всё сделать так, как рассчитал и спланировал. Я не боялся ответственности за конечный результат, поскольку был полностью уверен в своём профессионализме. В итоге всё получилось прекрасно, система теплоснабжения была приведена в качественное состояние, и Госэнергонадзор разрешил подключение новых мощностей.
Это было моё первое знакомство с фабрикой, на которой позже мне довелось проработать более десяти очень интересных лет. В то время на фабрике началась подготовка к внедрению оборотного водоснабжения. Предстояло сокращать потребление чистой воды, в том числе, отказываться от тёплой воды, получаемой от «Апатитской ТЭЦ». Об этой уникальной схеме я расскажу позже. Проектных решений по подаче тепла в технологию взамен низкотемпературного тепла «АТЭЦ» не было. Обдумывая возможные варианты обеспечения теплом «АНОФ-2» в условиях водооборота, я вспомнил об одном из пунктов «Правил пользования тепловой энергией». Он гласил, что потребитель, снижающий температуру обратной сетевой воды ниже температуры, предусмотренной графиком, не оплачивает количество тепловой энергии, которое он использовал за счёт такого снижения. Только что мне случилось серьёзно потрудиться, чтобы выполнить требования Энергонадзора, касающегося соблюдения утверждённого температурного графика. Поняв, что «Правила» имеют серьёзную силу, я подумал, почему бы не заставить и партнёров руководствоваться их положениями. Ознакомившись с энергетическим хозяйством фабрики, я заметил интересную ситуацию. Оказалось, что трубопроводы чистой воды, подаваемой из озера Имандра, проходят на территорию фабрики в непосредственной близости от тепловых камер, через которые проходили тепловые сети на апатитовое и нефелиновое производство. Учитывая эту благоприятную ситуацию и положение «Правил», я решил проработать вариант нагрева чистой технической воды, подаваемой на фабрику путём дополнительного охлаждения теплоносителя систем отопления, возвращаемого на «АТЭЦ». Я разработал схемы расположения двух бойлерных станций и рассчитал параметры необходимого оборудования. Получался очень интересный вариант. В этих бойлерных можно было глубоко охладить теплоноситель и получить более 50 Гкал в час тепловой энергии, за которую согласно «Правил» можно было не платить. Это были очень большие деньги. Я ознакомил с расчётами и схемой своего непосредственного руководителя, Чекрыгина. Он сначала посчитал это недоразумением. Но, это полностью соответствовало тем «Правилам», которыми воспользовалось «Колэнерго» и Энергонадзор, чтобы замедлить ввод объектов нефелинового производства. Мы ознакомили с моими предложениями главного энергетика объединения Игоря Алексеевича Писарева. Он тоже скептически отнёсся к реализации такой возможности. Но, согласился со мной в том, чтобы посмотреть на реакцию «Колэнерго». Я подготовил письмо в адрес генерального директора «Колэнерго» с предложением официально подтвердить, что всё низкотемпературное тепло, полученное «АНОФ-2» от «АТЭЦ», не будет подлежать оплате. Не веря в положительное решение, главный энергетик всё-таки посетил «Колэнерго». И те, руководствуясь «Правилами», вынуждены были официально подтвердить, что наши запросы будут удовлетворены. Это было удивительно для моего руководства. Проверив реакцию наших партнёров и, поставив их перед угрозой больших финансовых потерь, мы всё же не дали ход реализации этой схемы. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что получение такого огромного количества тепловой энергии бесплатно не может быть справедливым. Мы могли выиграть в платежах за тепло для «АНОФ-2». Но, очевидно, что «Колэнерго», понеся существенные финансовые убытки, предприняло бы усилия для пересчёта тарифов на тепловую энергию не только для промышленных потребителей, но и для населения. К тому же, они могли занять более жёсткую позицию во взаимоотношениях по электроснабжению объединения «Апатит». Исходя из этих соображений, мы просто сохраняли такую угрозу для «Колэнерго», не собираясь её реализовывать. И, не пойдя на этот шаг, улучшили общий фон взаимоотношений между двумя крупными организациями. Главный энергетик получил хороший козырь для решения с «Колэнерго» ряда проблемных вопросов в электроснабжении.
Вскоре, в том же 1978 году, в городе Апатиты начали создавать «Предприятие тепловых сетей». До этого почти все тепловые сети обслуживало объединение «Апатит», а магистральные сети и часть городских – «АТЭЦ». Уже был назначен директор предприятия, не специалист в теплоснабжении, а мне было предложено стать главным инженером. Руководство «Колэнерго» мне пообещали трёхкомнатную квартиру в Апатитах и служебную машину «Волгу». Перспектив на получение квартиры в объединении «Апатит» в моей ситуации в обозримом будущем не было. А у нас уже росли две дочки, проживать в неблагоустроенном жилье становилось не комфортно. Поэтому я дал согласие на это предложение. Мои документы одобрили в Мурманске, и всё было готово к моему переходу. Но прежде, чем подать заявление об увольнении я всё рассказал своему непосредственному руководителю Чекрыгину. Он с пониманием отнёсся к моему положению и о нашем разговоре сообщил Писареву. К моему большому удивлению, примерно через час меня пригласил на разговор генеральный директор объединения Г. А. Голованов, руководитель огромного предприятия на котором работали тысячи инженеров! Оказалось, что Писарев, рассказал ему о моей ситуации, и они обсудили, как меня сохранить в объединении. Георгий Александрович очень внимательно выслушал меня, уточнил мои проблемы и спросил, хочу ли я продолжать работу в объединении. Я сказал, что очень хотел бы, но семейные обстоятельства вынуждают перейти на работу с более привлекательными жилищными условиями. Голованов спросил, согласен ли я стать заместителем главного энергетика по теплоснабжению на «АНОФ-2»? Если соглашусь, то мне помогут с получением квартиры. Этой должности ещё не существовало, её решили создать специально для меня. Я ответил согласием, и уже после новогодних праздников, с января 1979 года начал работать на «АНОФ-2». Так я в очередной раз отказался от «номенклатурной» должности. В тот период на фабрике накопилось огромное количество проблем моего профиля. Одну из них я уже снял, выполнив наладку теплопотребляющих систем. Но, назрела более серьёзная работа. При освоении оборотного водоснабжения на фабрике столкнулись с серьёзными трудностями. Эти сложнейшие проблемы предстояло мне решать вместе с новыми коллегами.
Настала пора рассказать о замечательном руководителе и учёном, генеральном директоре объединения «Апатит» Г. А. Голованове. Георгий Александрович Голованов был легендарной личностью, доктором технических наук, профессором, депутатом Верховного Совета СССР. Под его руководством комбинат «Апатит» превратился в одно из крупнейших предприятий в своей отрасли не только на территории СССР, но и во всём мире. Георгий Александрович руководил огромным производственным комплексом, работающим в экстремальных природных условиях, и не допускающим сбоев в работе. Дополнительно к этому он нёс основную ответственность за жизнедеятельность населённых пунктов, поскольку комбинат был градообразующим. К себе и подчинённым он был очень требователен, и создал чёткую профессиональную систему управления огромным предприятием, охватывающую все уровни от первого руководителя до низшего звена. О своём стиле и методах работы руководителя он рассказывал в «Записках директора» и других публикациях. Свою систему управления Георгий Александрович создавал на научной основе и совершенствовал длительное время с учётом собственного опыта. Голованов строго выполнял все свои обещания, с этим позже столкнулся и я на своём опыте. По его мнению, «отсутствие самодисциплины в конечном итоге приводит к потере порядочности (почти исчезнувшее качество в нынешних деловых взаимоотношениях), которая проявляется в попытках объяснить свои промахи ошибками подчинённых». Он полагал, что «разбросанность в действиях директора непременно приведёт к таким же явлениям сначала у его заместителей, а затем и у других подчинённых». Самым наглядным проявлением низкого уровня самодисциплины он считал неточное по вине руководителя начало запланированных мероприятий. Он заранее откладывал совещания или другие мероприятия, если была угроза его личного опоздания хотя бы на пару минут. Что касается проведения совещаний, обязательным требованием были, аккуратный внешний вид, исполнительность поручений, чёткость в докладах и дисциплина. Если кто-то опаздывал, то, невзирая на должность, к совещанию он не допускался и затем наказывался. А если совещание не могло быть продуктивным без участия опоздавшего, то оно отменялось. Это было известно всем, поэтому, такое случалось крайне редко. Оптимальной продолжительностью любого совещания он считал один час, после истечения которого, внимание участников заметно падает. Он был убеждён в том, что подавляющее число вопросов при чёткой работе можно обсудить за это время. Иногда, при необходимости, назначалось повторное совещание по той же теме. К нему готовилась дополнительная информация, позволявшая глубже разобраться в обсуждаемых вопросах. Принятые решения строго контролировались отделом качества. Заместители директора, главные специалисты наделялись довольно большими правами с соответствующей ответственностью, но, главную линию проводил директор. Голованов был непримиримым к любителям алкоголя. Его заместители и главные специалисты вынуждены были воздерживаться от спиртного в воскресенье, если знали, что в понедельник нужно будет присутствовать на совещании у генерального директора. Наиболее громким был случай, когда во время поездки из управления «Апатит» на совещание, проводимое на «АНОФ-2», он почувствовал запах перегара от своего заместителя. Голованов остановил машину на середине дороги и предложил своему заместителю её покинуть. Это было в зимнее время в нескольких километрах от Кировска. Затем он уволил этого руководителя, поскольку это был не первый случай подобного рода. Ещё один значимый случай был связан с увольнением главного инженера объединения «Апатит», доктора технических наук. Это был очень уважаемый и заслуженный человек, позже ставший лауреатом Премии Совета Министров СССР. Поводом для его увольнения стало то, что ему в ремонтном цехе сделали книжную полку, за которую он не вовремя расплатился. Информация дошла до генерального директора, и он принял соответствующее решение. Для всех это было шоком. Неизвестно, стал ли основанием для расставания только этот случай, или накопились другие причины. Принятие решений по обоим руководителям, дались ему непросто, но это были чёткие сигналы работникам всех уровней огромного предприятия. Не терпел он и обмана. Однажды, один из сотрудников отдела новой техники, Артём Тарасов, направил в Москву одну из заявок на оформление изобретения. Требовалась подпись генерального директора, но Голованов в это время был в столице. Говорили, что Тарасов, желая ускорить процесс, подпись на сопроводительном документе подделал. После возвращения из Москвы, Голованов, узнав об этой проделке, сразу же уволил Тарасова. Мой хороший товарищ Алексей Краснов работал вместе с Тарасовым в одном отделе и очень хорошо о нём отзывался. Этот случай характеризует, насколько высоки были требования к сотрудникам и их морально этическим качествам на советском предприятии. Превышение полномочий и несоблюдение принципов порядочности дорого обошлись молодому инженеру. Но, ему повезло. В середине 80-х годов были изданы законы, разрешавшие кооперативам заниматься любым незапрещённым видом деятельности, в том числе и торговлей. Вернувшись в Москву, Тарасов, как инициативный человек, занялся мелким бизнесом, поставляя из-за границы компьютерную технику. Дела пошли очень успешно, и он стал первым российским миллионером. Причём, первым членом КПСС, оплатившим партийные взносы с этой немалой суммы.
В своих «Записках директора» Георгий Александрович отметил крайне негативное отношение к использованию родственных связей на предприятии. Ни жена, ни друзья не должны каким-либо образом высказывать заинтересованность в решении производственных вопросов. Он был против того, чтобы дети работали на предприятии своего отца, директора. Так он поступил и со своим сыном, который окончил Горный институт и защитил кандидатскую диссертацию по обогащению руд. Его сын был назначен главным инженером на «АНОФ-2» уже после того, как отец в 1983 году прекратил работу в объединении «Апатит». Удивительно писать об этом в 2020 году. Всё изменилось коренным образом. Даже у высоких государственных руководителей «пристроены к делу» и жёны, и дети. И, как ни странно, все они становятся очень «эффективными предпринимателями», быстро становясь обладателями многих миллионов, подчас миллиардов. А также владельцами дорогой собственности в России и в зарубежье. Более того, многие из высокопоставленных чиновников, находясь на государственной службе, становятся гражданами других стран.
Большое внимание Голованов уделял кадрам инженерно-технических работников, непрерывному росту их профессионализма. Для этого очень многое делалось на «Апатите». Он сам защитил докторскую диссертацию по вопросам обогащения апатитового концентрата. Главный инженер Владимир Васильевич Гущин был горняком, доктором наук. Автор 152 научных работ. Ряд специалистов основных профессий защитили кандидатские диссертации по этим тематикам. Для подготовки и защиты диссертаций в объединении были созданы необходимые условия. Генеральный директор и главный инженер объединения руководили аспирантами, каждый по своему профилю. По мнению Голованова, во-первых, это помогало решать задачи совершенствования производства, а во-вторых, такие специалисты могли со знанием дела оценивать результаты исследований, выполненных научными институтами. А их приходилось привлекать очень много, поскольку перед «Апатитом» постоянно ставились задачи ускоренного развития и модернизации производства. Тесное сотрудничество с научными организациями и постоянное совершенствование технологических процессов были очень кстати для научной работы и горняков и обогатителей. Запомнилось и одно из его «крылатых выражений». Разбираясь в причинах производственных неурядиц и заслушав объяснения провинившихся, что им чего-то не хватает. Он, поняв истинную причину неурядиц, произносил Ленинскую фразу: нам нужен НЭП. Только он имел в виду не Ленинскую «Новую Экономическую Политику», а «Наведение Элементарного Порядка». Он был абсолютно прав, никакая новая техника не даст нужного эффекта в условиях бардака.
Следует отметить, что после ввода в эксплуатацию фабрики «АНОФ-2» в 1963 году и вплоть до конца восьмидесятых годов, когда была построена «АНОФ-3», это развитие могло осуществляться только за счёт реконструкции «АНОФ-2». Без реализации достижений научно-технического прогресса поставленные задачи решить было невозможно. Для решения сложных технологических вопросов на фабрику приглашались научно-исследовательские и проектные организации, работающие в разных научных направлениях. Модернизировались почти все технологические процессы и энергетическое хозяйство фабрики. Благодаря решению Голованова и Писарева, мне посчастливилось в этом активно участвовать. Это были очень интересные годы работы, полностью отвечающие моим инженерным запросам и профессиональному образованию, полученному в институте.