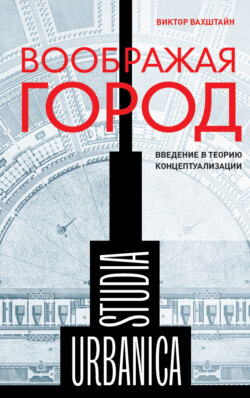Читать книгу Воображая город. Введение в теорию концептуализации - Виктор Вахштайн - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Введение в эпистемологию города
Город: модель для сборки
ОглавлениеТеория устанавливает всякий раз определенную форму действительного как свою предметную область. Каждое явление, выступающее внутри той или иной области науки, обрабатывается до тех пор, пока не начинает вписываться в определяющую предметную структуру теории.
М. Хайдеггер
Мы исходим из того, что всякая социальная теория (сконструированная рефлексивно или принимаемая на веру по наитию) – это в первую очередь некоторый ресурс воображения. Центральная характеристика теоретической конструкции – представимость мира ее средствами. Наука, по меткому замечанию Хайдеггера, «сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета ее собственным способом представления» [Хайдеггер 1993: 62], а потому пополнение арсенала способов представления, техник воображения и мышления – особая область теоретической работы.
Мы также принимаем как не требующий доказательств тезис о существовании «нелогического ядра логически выстроенной теории» (К. Поппер), об уровне «невопрошаемого» в социологическом теоретизировании. Феноменологическая философия вооружила социологию идеей «epoché естественной установки» [Шюц 2003] – представлением о необходимости перестать сомневаться в реальности мира для существования в этом мире. Чтобы сороконожка могла сделать хотя бы шаг, она должна запретить себе задаваться вопросом «С какой ноги ходить?». С тем же основанием мы можем говорить об «epoché рефлексивной установки» социального ученого – о приостановке сомнения в собственных аксиоматических допущениях. Сомнение в аксиомах блокирует дальнейшее рассуждение. Исследователи «городской мобильности» не ставят под вопрос «перемещения людей, товаров и идей» – иначе им просто нечего будет сказать [Урри 2012]. Аналогичным образом и исследователи «порядков повседневного взаимодействия лицом к лицу» [Гофман 2000] не сомневаются в наличии у людей лиц. (Впрочем, мало не сомневаться в существовании «городских мобильностей» или «выражения лица» – нужно научиться не сомневаться в их значимости для исследования.)
Аксиомы имеют не логическую, а имажинативную, образную природу. Мы исходим из того, что в основе любого социологического (и, вероятно, не только социологического) исследования лежит имплицитный образ изучаемого объекта. Имплицитные образы предпосланы концептуальным определениям и составляют их «твердое ядро», между собой образ и концепт соотносятся как аксиоматический и теорематический уровни знания.
Образы носят дологический и контингентный характер. С этим тезисом, по всей видимости, не согласились бы классики марксизма, для которых
предпосылки… не произвольны, они – не догмы; это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении… Это – действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем [Маркс, Энгельс 1955].
Впрочем, данное утверждение классиков также аксиоматично и само по себе не может быть установлено эмпирическим путем, оно связано с имплицитным представлением о «действительных индивидах» и «материальных условиях их жизни» как о наиболее прочных основаниях нашего знания о мире.
Имплицитные образы объекта, лежащие в основе теоретических описаний, зачастую принимают вид метафор9. Фундаментальные метафоры «общество как организм», «общество как высшее существо» или «общество как система» предпосланы социологическим описаниям, выполненным в технике «социетального реализма». Социология науки оперирует иным набором фундаментальных метафор10: «наука как политика», «наука как язык», «наука как этикет» и т. п. У социологии города – свой набор метафорических инструментов.
Аксиоматика (посредством метафор) определяет оптику теории. Оптика – это стратегия взгляда. Исследователь видит мир таким, каким его делает доступным взгляду его собственный теоретический словарь. Изменяя «настройки» теории, мы изменяем пространство ее оптических возможностей.
Оптика задает горизонт проблематизации. Операция проблематизации – постановки под вопрос, представления какого-то аспекта изучаемого объекта в образе «черного ящика» – возможна благодаря несомненности аксиом и ясности оптик. Поэтому эпистемическая проблема, проблема, которую можно исследовать в пределах выбранных различений, – это всегда результат осмысленных усилий проблематизации и никогда не свойство самого объекта.
Наконец, последняя предпосылка нашего анализа: оптика является условием практики. В конечном итоге исследователь может действовать лишь в границах «видимого»; поскольку используемые им понятия являются «условиями видимости» изучаемых им объектов, всякое исследовательское действие – то есть действие эпистемическое, направленное на приращение знания об объекте – оказывается «оптически заданным»: невозможно изучать то, чего нет в словаре исследователя. А потому «теория» (выбранная осознанно или принятая имплицитно) есть в любом эпистемическом действии.
Аналогично: способность к самонаблюдению и самоописанию потенциально заложена в любом исследовательском языке. Из этого не следует, что рефлексия социального ученого – обязательный компонент его работы. Среднестатистический российский социолог может бесконечно долго рассуждать о «социальной и исторической детерминации форм знания» на примере «массовых представлений» «среднестатистических граждан» Российской Федерации, возводя генезис таких представлений к «негативной идентичности людей» и «историческим травмам», полученным ими в результате «распада Советского Союза» [Гудков 2011]. Однако требуется мужество, чтобы признать: тогда и его собственные объяснения имеют сходное происхождение, а значит, обусловлены его, исследователя, исторической травмой. Оптические возможности социолога всегда ограничены: зоны видимости окружены слепыми пятнами. Порой слепым пятном для исследователя оказывается сам исследователь.
Иллюстрацией такого образа науки служит метафора радара, который позволяет наблюдать самолеты задолго до их появления в зоне прямой видимости. Для того чтобы оператор мог их различить, в систему уже должно быть заложено отображение некоторого сегмента пространства в условную координатную плоскость, представленную на мониторе, а помимо этого – сложная совокупность идентификаций и различений («самолет/несамолет», «свой/чужой» и т. п.). При этом у нас никакой «зоны прямой видимости» нет. Никто не видел «социальных установок» и «российского общества» воочию. Кажется, что «выражения лиц» в отличие от социетальных структур доступны прямому наблюдению, но это тоже обман зрения: социологическое понятие facework [Goffman 1967] имеет с «выражением лица» такое же отдаленное сходство, как ползущая по монитору точка – с самолетом. То же самое относится и к городской жизни. Никто из нас не видел города как города. На город нельзя указать пальцем. Система локации создает лишь референции своих объектов на мониторах благодаря своим собственным средствам представления. Как замечает по этому поводу французский эпистемолог Ж. Никод:
Каждая система в конечном итоге знает только собственные изначальные формы и не умеет говорить ни о чем другом [Nicod 1924; цит. по Бурдьё 1996].
(Данный тезис Никода относится к геометрии, но может быть использован применительно к научному познанию как таковому.) Иными словами, самолет – это объект, точка на мониторе – предмет.
Обратим внимание на идею различения. По большому счету различение – это главная операция концептуализации, перевода объекта в предмет. Всякая концепция подобна системе наведения на цель, использующейся в противовоздушной обороне: чтобы можно было зафиксировать движущийся объект и идентифицировать его как вражеский самолет, в систему должна быть заложена некоторая совокупность основных различений, позволяющих ей отличать самолеты от птичьих стай, а вражеские самолеты – от собственных. Таким образом, основополагающим различением является граница между объектом исследования («самолетом») и тем, что остается за скобками описаний («птичьими стаями»). Второй порядок различений – отделение релевантных для анализа параметров объекта («свой/чужой») и нерелевантных его параметров («зеленый/серебристый»). Соответственно любая система различений является также и системой релевантностей [Шюц 2004], но это – другая тема.
Схема 7. Операции исследования и демаркация «региона науки»
Что любопытно, подобными объектами различения и идентификации могут выступать другие системы локации. Отсюда способность самореферентных научных языков к взаимному наблюдению и описанию – считыванию. Один язык может становиться ресурсом другого.
Таким образом, всякое социологическое исследование – это серия связанных друг с другом «переводов», выстроенных вокруг демаркационной линии науки/ненауки. Так же, как в каждой шутке есть лишь доля шутки, в каждом исследовательском проекте есть лишь доля науки. А вместе с ней – немалая доля здравого смысла, художественного воображения и управленческих компетенций. Ни один исследовательский проект не принадлежит научному миру целиком.
Если граница науки и ненауки может быть проведена с необходимой ясностью, то исследование (причем любое социологическое исследование) будет располагаться по обе ее стороны. Примерно так, как это показано на схеме 7.
Мы можем отметить точки перехода, в которых исследование приобретает или, напротив, теряет свою строгую научность:
– при преобразовании смутного метафорического образа изучаемого объекта в его ясное концептуальное описание (например, при движении от метафоры «Город как биогеоценоз» к концепту «городская среда»);
– при передаче разработанного в контролируемых лабораторных условиях инструментария «полевикам», которые далее должны проверить его жизнеспособность в слабо контролируемой стихии сбора данных. («Скажите, сколько времени в среднем вы тратите на дорогу от дома до работы/учебы в одну сторону?»);
– при получении сырых данных для преобразования их в данные приготовленные, пригодные к интерпретации. («Не вижу никаких зависимостей в этом массиве – попробуем отфильтровать всех, чей ежемесячный доход меньше 25 тыс.»).
Таким образом, только шаги концептуализации, операционализации (разработки инструментария) и интерпретации данных совершаются по правилам научного метода, остальные операции – и среди них полевой этап – подчинены иным законам. Причем если о регионе научного знания мы можем говорить как о более или менее консистентном, предъявляющем к нашему тексту унифицированные требования (концептуальной ясности, методологической чистоты, обоснования суждений), то регионы по ту сторону разграничительной линии крайне разнообразны. Базовые метафоры (уровень аксиом) опираются скорее на интуицию и воображение11, процедуры сбора полевых данных – на логику здравого смысла и организационные способности исполнителя.
Соответственно, теория и эмпирия – это не бинарная оппозиция, между полюсами которой растянуто социологическое исследование. Скорее, мы имеем дело с постоянными переходами между разными замкнутыми субуниверсумами (Альфред Шюц называет их «конечными областями смысла»), среди которых «мир научной теории» и «мир опыта» – лишь две остановки на долгом пути. Регионы социологического теоретизирования, повседневного опыта информантов, воображения исследователей и практических задач заказчиков граничат друг с другом, но остаются взаимно непроницаемыми, поскольку каждая из областей имеет собственный императив и внутреннюю логику. Эта логика не сводима к логике остальных областей, подобно тому как «конечные области смысла» Шюца являются герметично замкнутыми и отграниченными друг от друга. Требования заказчика ничего не значат на языке теории или методологии. Концептуальные определения, образующие основу теории (такие, например, как «городской ассамбляж»), не могут быть непосредственно соотнесены с опытом – им требуется операционализация. Однако существуют своего рода принципы перевода, благодаря которым элементы исследования соотносятся между собой и предстают как различные части единой конструкции.
В этой книге нас будет интересовать только первая операция в цепочке переводов – проектирование теоретического «радара». Какие ресурсы социологического воображения используются в мышлении о городе и какие могут быть в него импортированы?
9
Сам по себе образ не тождественен метафоре. Можно сказать, что метафора представляет собой одну из форм бытования дотеоретического образа – форму, которая делает возможной его последующую теоретическую обработку и превращение в концепт. Мы исходим из того, что метафоры не рядоположны концептам и потому принадлежат, скорее области дотеоретического, нежели собственно теоретического знания, но к этому тезису мы еще вернемся.
10
Фундаментальными здесь и далее называются метафоры, служащие для описания объекта (суб)дисциплины в целом и выполняющие функцию демаркации, первичного различения объекта / необъекта.
11
В духе известного высказывания Х. Ортега-и-Гассета: «Поэзия изобретает метафоры, наука их использует, не более. Но и не менее» [Ортега-и-Гассет 1991].