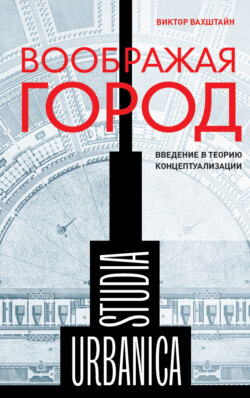Читать книгу Воображая город. Введение в теорию концептуализации - Виктор Вахштайн - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Введение в эпистемологию города
Кэролин Стил и тест на урбанизм
Загадка Юго-Запада
ОглавлениеМногим из тех, кто пытался купить или снять квартиру в Москве, хорошо известен феномен Юго-Запада. Не выделяющийся существенно ни по качеству жилого фонда, ни по транспортной доступности кластер районов тем не менее заметно выделяется по стоимости жилья. Для Москвы, где цена квартиры напрямую зависит от расстояния до центра, это почти пространственная аномалия.
Географ мог бы объяснить эту аномалию указанием на специфику ландшафта, розу ветров или экологические условия (на Юго-Востоке – заводы, на Юго-Западе – университеты). Социолог Ольга Трущенко находит нетривиальное объяснение феномена Юго-Запада:
Средневековое социальное разделение города на западную и восточную часть, по всей видимости, положило начало одной из особенностей столичной сегрегации. На протяжении дальнейшей истории тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества. Изначальная социальная противоположность запада востоку, Кремля Китай-городу, по мере роста Москвы повторила себя в полукольце Белого города. В западной части Белого города, в Занеглименье, в XIV веке стоял двор великой княгини и другие дворы, принадлежавшие приближенным к великому князю боярам [Памятники 1989: 11], в то время как «восточная сторона Белого города образовалась отчасти из торговых, но более всего из ремесленных слобод» [Никольский 1991: 29] [Трущенко 1995: 21].
Таким образом, чуть ли не с момента основания города знать селилась «на запад», а чернь – «на восток» от центра. По мере роста Москвы социальному противостоянию по линии «запад – восток» добавилась сегрегация «центр – периферия». Однако юго-западные окраины по престижности почти не уступают центру – сохраняется символическая ценность западного направления. В итоге
к XVII веку основными пространствами расселения властителей государства и верхушки правящих сословий, боярства и духовенства оставались Кремль и местности к западу и юго-западу от него в Белом и Земляном городах [там же: 22].
Самое интересное здесь то, что даже «на протяжении советского периода в столичном расселении воспроизводились основополагающие тенденции социального противостояния запада востоку, а точнее юго-запада юго-востоку, и центра окраинам» [там же: 39]. Новая советская элита, выбирая место для жилья, ориентировалась на символическую разметку пространства, произведенную прежним политическим режимом:
То, что в основе советского сценария столичной сегрегации лежали, как и в предшествующий исторический период, тенденции социального деления пространства на запад – восток (юго-запад – юго-восток) и центр – окраины, наглядно демонстрирует анализ территориальной привязки крупных массивов жилья, выстроенных для номенклатуры начиная с 30‐х годов и до 80‐х [Трущенко 1995: 40].
Разные социальные группы обладают разными ресурсами, и в том числе разным престижем. Они маркируют одни пространства как «престижные», а другие – как «непрестижные». Эти различия могут воспроизводиться в пространстве даже при самых радикальных преобразованиях общественного строя.
Приведенное выше исследование Ольги Трущенко представляет для нас даже бóльший интерес, чем предмет этого исследования. На первый взгляд, автор действует не как социолог, а как историк: изучает архивные документы, карты и ранние статистические сборники. Это первая ошибка в интерпретации. «Социологическим», «экономическим», «историческим» или «географическим» текст делает не метод (что бы ни подразумевалось под этим размытым понятием), а язык описания, который предшествует самому описанию. Вторая возможная ошибка интерпретации – синтагматически добавить элемент «сегрегация» к множеству уже имеющихся элементов «Москва». Трущенко – не урбанист, она не производит синтагматического смещения внимания читателя на еще один элемент Х – сегрегацию. Она совершает радикальный парадигматический сдвиг. Для нее город – это не здания, не районы, не ландшафт, не индустриальное производство и даже не «живые люди», а результат объективации социального пространства (т. е. пространства социальных сходств и различий) в пространстве физическом.
Таким способом мышления о городе социологи обязаны Пьеру Бурдьё. Когда Трущенко пишет «тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества» [там же: 21], в ее тексте (в форме концептуальных оппозиций) выражает себя знаменитая формула Бурдьё:
физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии [Бурдьё 1993: 53].
Если город – проекция социальной структуры, то текст Трущенко – проекция бурдьевистского теоретического языка. Сам Бурдьё никогда не был в Москве и мало что знал об этом городе. Но созданный им способ мышления – в том числе способ мышления о городах – позволил российской исследовательнице выразить Москву в предложенной концептуальной схеме и увидеть что-то, что раньше ускользало от взгляда социологов. Главное, помнить: концептуализация города – не пересказ, а перевод. В этом и состоит смысл третьей опции – парадигматического сдвига, отказа от синтагматического и тавтологического решения.
В следующем разделе мы еще вернемся к элементам концептуализации города у Бурдьё, а пока подведем итоги теста на урбанизм им. Кэролин Стил.
1. Если, закрыв глаза и описав город (как того требовали правила игры), вы прибегли к тавтологическому нарративу – все в порядке, вы нормальный горожанин, которому вполне хватает языка здравого смысла для понимания города.
2. Если вы использовали синтагматическое решение («города – это люди, пробки, грязь, а еще коррупция и безработица»), вы – по всей видимости – урбанист.
3. Если попытались предложить консистентную концептуализацию города – вы, скорее всего, ученый, которому для понимания города самого города недостаточно.
Далее мы сфокусируемся именно на третьем решении.