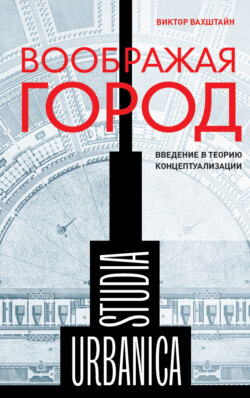Читать книгу Воображая город. Введение в теорию концептуализации - Виктор Вахштайн - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Идол сообщества
Сообщество как код города
«Знакомые незнакомцы» Стэнли Милгрэма
ОглавлениеСтэнли Милгрэм пишет:
Едва ли не самой характерной чертой жизни большого города является то, что мы, горожане, зачастую прекрасно знаем в лицо множество людей, но при этом никак с ними не взаимодействуем… Мне, к примеру, в течение нескольких лет практически ежедневно приходилось выстаивать на пригородной платформе в компании постоянных попутчиков, ни с одним из которых я так и не свел знакомства. Люди и их физиономии в такой ситуации как бы слиты с окружающей обстановкой и воспринимаются скорее как элемент декорации, чем как действующие лица, с которыми можно вступить в диалог или хотя бы обменяться молчаливыми приветствиями [Милграм 2000: 75].
Описанная выше ситуация, послужившая источником вдохновения психолога-экспериментатора, весьма специфична. Интересно, какой процент жителей российского мегаполиса выстаивает на пригородной платформе в окружении одних и тех же лиц? Что касается метро и пробок – там лица каждый раз разные. Когорта людей, живущих в пригороде и ежедневно путешествующих в город на поезде (который отправляется в одно и то же время строго по расписанию), сама по себе является идеальным экспериментальным объектом. Не будучи сообществом в полном смысле слова (отсутствует различение «мы/они»), такая когорта тем не менее уже содержит в себе предпосылки к его образованию. Нужно лишь, чтобы незнакомцы на платформе начали распознавать друг друга как «своих».
Милгрэм продолжает:
Какое-то время назад группа студентов Университета Нью-Йорка предприняла попытку исследовать феномен знакомого незнакомца. Они вставали рано утром и отправлялись на пригородные железнодорожные станции. Они фотографировали толпящихся там людей, стоящих плечом к плечу с устремленными вдаль взглядами. Каждая персона, запечатленная на таком групповом портрете, была пронумерована, снимки – размножены и примерно через неделю вручены попавшим в кадр пассажирам вместе с распечаткой текста, поясняющего суть эксперимента, и бланком вопросника. Восемьдесят девять с половиной процентов опрошенных указали на снимках по крайней мере одного человека, попадающего в категорию знакомого незнакомца. В среднем на каждого пассажира пришлось по четыре человека, чьи лица ему были хорошо знакомы, но с которыми он ни разу не говорил, и примерно по полторы особы, с которыми ему доводилось беседовать [Милграм 2000: 77].
Заметим, платформа электрички – идеальное общественное пространство по Гофману: физическое соприсутствие людей лицом к лицу в ситуации жестко регламентированного этикетом «гражданского невнимания». Но, в отличие от социолога Гофмана, психолога Милгрэма интересует не отсутствие коммуникации как таковой, а психологические (в данном случае – эмоциональные) условия ее возможности.
Существует одно железное правило, касающееся всех знакомых незнакомцев: сойдя с подмостков, на которых происходят их рутинные встречи, они весьма охотно идут на контакт. Можно с большой долей уверенности утверждать, что при встрече в каком-нибудь захолустье эти люди опознают друг друга, вступят в разговор и даже ощутят прилив почти родственных чувств [там же: 75].
Но чтобы люди могли сойти с подмостков (метафора, позаимствованная Милгрэмом у раннего Гофмана), должно произойти какое-то экстраординарное событие:
Одна женщина упала на улице Бруклина неподалеку от своего дома. На свое счастье, она оказалась «знакомой незнакомкой» другой женщины, проживающей на этой же улице. Та отнеслась с полным сочувствием к потерявшей сознание несчастной. Она не только вызвала скорую помощь, но и сопроводила незнакомку в клинику, во-первых, чтобы убедиться, что больной окажут необходимую помощь, а во-вторых, чтобы не вводить в искушение санитаров, показавшихся ей нечистыми на руку. Еще та женщина призналась, что она вдруг почувствовала ответственность за судьбу особы, с которой долгие годы встречалась на улице, никогда, впрочем, не испытывая нужды ей кивнуть или вступить в разговор [там же: 77].
Основной тезис Милгрэма: отсутствие коммуникации не означает отсутствия эмоциональной связи, необходимой для образования сообщества. Эмоциональные связи могут пребывать в «замороженном», неактуализированном состоянии.
Иное развитие тезиса о первичности различения «своих» и «чужих» в архитектуре сообщества предложил Георг Зиммель в «Экскурсе о чужаке». Оно касается тонких отношений взаимозависимости между сообществами «своих» и «пришлых»: чужак оказывается необходимым фактором возникновения самосознания группы, становясь чем-то вроде ее alter ego [Зиммель 2008]. К примеру, в средневековых итальянских городах практиковалось приглашение судей-«чужаков», никак не связанных с жизнью городского сообщества, а потому способных занять по отношению к нему объективную позицию. Такова социальная функция «варягов» во все времена. Но, как справедливо указывает Зиммель, исторически социальный тип «чужака» изначально воплощается в купце.
Схема 8. Координаты сообщества
Мы видим здесь, как оппозиция «свое / чужое» накладывается на другую оппозицию – различение «внутреннего / внешнего». Появляется любопытное пересечение критериев демаркации, позволяющих определить сообщество как одновременно социальное и пространственное образование.
Сообщество определяется своей способностью выстраивать интерфейсы коммуникации с «внешним своим» (назовем эту группу «диаспорой»), «внутренним чужим» (классическим зиммелевским «чужаком») и «внешним чужим» (экзистенциальным «врагом» в определении Карла Шмитта12). Таковы координаты самоопределения сообщества. Кажется интересной гипотеза, согласно которой именно наличие «чужака» – а не «врага» – делает сообщество сообществом. Благодаря «врагу» сообщество становится политическим, но на формирование его идентичности именно как сообщества «чужак» оказывает гораздо большее влияние.
Другой любопытный сюжет связан с транспозициями групп: переводом отдельных групп из одной ячейки предложенной схемы в другую. Самый частый случай: «диаспора» возвращается на Родину и становится группой «чужаков», пересобирающих свою идентичность на новых основаниях. Из «своих там» они превращаются в «чужих здесь». Этот процесс прошли португальские колонисты, вернувшиеся в метрополию после обретения Бразилией независимости, и израильские ререпатрианты (йоредим), вернувшиеся в Россию после долгого пребывания в Израиле. (Один из способов поддержания такой дважды диаспорной идентичности – образование закрытых клубов.) Но еще любопытнее ситуации транспозиции интерфейсов – переноса логики взаимодействия с одной группы на другую, к примеру превращение «чужаков» во «врагов» и наоборот.
На протяжении всей человеческой истории мы видим ситуации переноса логики отношения с «врагом» на отношения сообществ с внутренними «чужаками». Эта транспозиция стоит за многочисленными примерами депортаций, репрессий и этнических чисток. Однако не меньшего внимания заслуживает и обратный перенос – операция апроприации «врага», превращения его во внутреннего «чужого» задолго до того, как он действительно оказывается «внутри». Такова логика имперской колонизации. Подлинная империя видит во «враге» будущего «чужого», которого предстоит ассимилировать после завоевания. Агрессивное национальное государство видит в «чужаке» «врага», представителя «пятой колонны», с которым лучше разобраться незамедлительно.
«Чужаки» могут образовывать свои собственные сообщества внутри, и тогда к ним становится применима та же четырехчастная аналитическая схема13.
Парадоксальны в данном отношении утопические сообщества, как они описаны в классической литературе. Утопия – образование, предельно изолированное в территориальном и социальном плане. Для утопического сообщества две этих оппозиции – своего/чужого и внутреннего/внешнего – практически совпадают. Отсюда парадокс: сами обстоятельства жизни предписывают утопиям не иметь ни внешних «диаспор», ни внутренних «чужаков». Утопии герметичны: они осознают себя через противопоставление либо своим далеким от совершенства соседям («внешние чужие»), либо своему собственному варварскому прошлому. Это исключает наличие устойчивого интерфейса взаимодействия утопического сообщества с «внутренними чужими». В утопиях – масса общежитий, но нет гостиниц. Одно из немногочисленных исключений – Дом чужестранцев в «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона. Но дом этот большей частью пустует и используется как карантинное помещение на случай редких визитов заблудившихся моряков.
12
См. [Шмитт 1992]. Для Шмитта именно существование «врага» – а не просто «чужака» – является экзистенциальным основанием политики и политического. Ср. эту трактовку с зиммелевской: [Зиммель 1992].
13
См. любопытную параллель у Саскии Сассен [Sassen 1999].