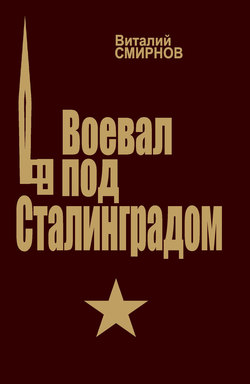Читать книгу Воевал под Сталинградом - Виталий Смирнов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Проверка на человечность
(Юрий Бондарев)
2
ОглавлениеДень, прошедший, как одно мгновенье, остался в памяти Юрия Бондарева на всю жизнь. И не случайно, что первое приобщение к писательству в годы студенчества в Литературном институте началось с карандашного наброска, напоминающего начало «Горячего снега», который затерялся в бумагах. Потом, по верному наблюдению В. Ко-робова, «как своего рода символ солдатского мужества и стойкости, Сталинград врывался во все последующие произведения» Ю. Бондарева[34].
Герои повести «Батальоны просят огня» Ермаков и Гуляев познакомились в Сталинграде: «Мы с тобой – как родные со Сталинграда шли…». Новиков в «Последних залпах» горько сетует: «Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось». Сталинградский «мотив» звучит в «Тишине»: «Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по сталинградским степям – наступали на Котельниково…»; «…Сергей сказал: – На фронте ненавидел зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печку даже летом»; «Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропадало солнце, он (Константин. – В С) видел людей, которых называли «контуженными страхом». Вспоминает о военном Сталинграде и один из героев повести «Родственники»:
«Знаешь, Олег, что я вспомнил? Ночную атаку немцев на «Красном Октябре».
Не случайно и то, что о заветном «своем» Ю. Бондарев поведал спустя не одно десятилетие после победы, когда были написаны и «Юность командиров», и «Батальоны просят огня», и «Последние залпы», будто боясь расстаться с этим самым «заветным». Одну из причин довольно позднего обращения к непосредственному воплощению сталинградских впечатлений (опосредованно они, несомненно, находили отражение) сам писатель объяснял и сложностью замысла, и необходимостью «дистанцироваться» от пережитого – «лицом к лицу лица не увидать»: «…Концентрация деталей, эпизодов, конфликтов, ощущений, потерь, образов, солдат, пейзажей, запахов, разговоров, ненависти и любви была настолько густа и сильна после возвращения с фронта, что просто невозможно было все это организовать, найти необходимый сюжет, композицию, ясно проявить главную мысль. Сотни сюжетов, судеб, колизий, характеров теснились в неостывшей памяти каждого. Все было слишком горячо, слишком близко – детали вырастали до гигантских размеров, затмевали основное».
За годы, прошедшие с момента написания нескольких страничек, рассказавших о воинском эшелоне, идущем к Сталинграду, и высадке дивизии в голой промерзлой степи, сталинградская тема не раз возникала на страницах бондаревской публицистики, в различных интервью, в публичных встречах и беседах с читателями[35].
Оживлению воспоминаний способствовала работа над сценарием киноэпопеи «Освобождение», изучение советской и зарубежной литературы о войне и кинохроники, многочисленные встречи с военачальниками и рядовыми солдатами Великой Отечественной. А в 1967 году будущий автор «Горячего снега» едва не встретился в Мюнхене с фельдмаршалом Манштейном, но старый вояка в аудиенции отказал, сославшись на болезнь. «Издатель, – вспоминал Ю. Бондарев, – довольно решительно снял трубку и через справочную узнал номер телефона фельдмаршала. Я хорошо слышал последующий разговор. Старческий голос в трубке надолго замолчал, как только издатель сказал, что господину фельдмаршалу хочет задать несколько вопросов русский писатель, занятый изучением материалов второй мировой войны, в том числе, конечно, и Сталинградской операции.
Длилась томительная пауза, потом старческий голос не без удивления переспросил: «Русский писатель? О Сталинграде? – и опять после паузы, с пунктуальностью военного: – Какие именно изучает он вопросы?» Затем, после осторожного молчания:
«Пусть изложит письменно вопросы». Затем, после длительной паузы: «Я все сказал в своей книге «Потерянные победы». О себе и о Паулюсе». И наконец: «Нет, нет, я никак не могу встретиться. У меня болит горло. Я плохо себя чувствую».
– Я так и думал, – сказал издатель, положив трубку. – У этих вояк всегда болит горло, когда надо серьезно отвечать».
«В сущности, – признавался Ю. Бондарев, – я не очень хотел бы этой встречи с восьмидесятилетним гитлеровским фельдмаршалом, ибо испытывал к нему то, что испытывал двадцать пять лет назад, когда стрелял по его танкам в незабытые дни 1942 года»[36].
Встреча с Манштейном не состоялась. Позднее А.Елкин задал писателю, может быть, и не корректный вопрос, о чем бы он спросил фельдмаршала при встрече, на который Ю. Бондарев охотно ответил. Поскольку ответ этот связан с творческой историей бондаревского романа, не поскуплюсь на цитирование:
«В «Горячем снеге» вначале мне хотелось широко показать и немцев. Но я противник внешнего описательства, хотя, видит бог, знал противника не понаслышке и не по архивным документам. Образы, воссозданные «по архивам», а не по пережитому и увиденному лично, чаще всего оказываются не полнокровными характерами, а картонными фигурами. «Реставрировать» образ мышления гитлеровцев по их мемуарам и запискам – значило идти на риск, поддаться чужой, часто фальсифицированной поздним числом информации. К тому же мне не хотелось «додумывать» мысли Манштейна в трагические часы для его армий. Не лучше ли, подумалось мне, порасспросить о переживаниях самого фельдмаршала.
Собственно, самому Манштейну в романе видного места не предназначалось. Одним из главных моих героев должен был стать немец – почти мальчишка, попавший на русский фронт в составе армии Манштейна. Его, этого мальчишки, мысли, переживания, чувства, отчаяние, истоки способности объективно оценивать происходящее вокруг. По ходу повествования он должен был встретиться с фельдмаршалом. Хотелось взглянуть на события и глазами этого молодого немецкого солдата и глазами Манштейна.
Поэтому и разговор с фельдмаршалом, если бы Манштейн пошел на встречу, я предполагал провести в интересующем меня русле. В мемуарах он нагородил, оправдывая свои поражения, немало всякой чепухи. А мне хотелось чисто по-человечески – времени с окончания войны прошло немало, и, думалось, Манштейн хоть в чем-то смог бы оказаться хотя бы относительно объективным – спросить его как солдат солдата. Во-первых, действительно ли был он убежден как командующий группой армий «Дон», как испытанный мастер танковых таранов, что ему 11 декабря 1942 года удастся прорваться к окруженным войскам Паулюса? И что он думал, когда получил такой приказ от Гитлера? Во-вторых, было любопытно узнать, какие, по его мнению, последствия для хода операции на Восточном фронте имел бы успех такого прорыва. В-третьих, уже чисто как писателя меня интересовало, какие чувства пережил Манштейн, когда ему донесли, что танки Гота – острие тарана – не смогли сокрушить боевые порядки русских и, разгромленные, откатываются к Котельникову. Психология командующего в мгновение такого нравственного удара, после получения первого донесения о провале его замыслов, не могла меня не интересовать.
В своих мемуарах Манштейн, как и другие битые гитлеровские генералы, все и вся сводит к обтекаемо-удобной формуле: «Я – солдат, приказ есть приказ, и не выполнить его нельзя, к сколь бы удручающим последствиям он ни привел…» Но, прежде чем писать Манштейна в романе, я хотел лично убедиться, было ли все это позой, наигранностью или действительными убеждениями фельдмаршала. «Долг» – долгом, но хотелось глубже понять его человеческую натуру. Каковы были его чисто человеческие убеждения и мысли и что в этом смысле означала для эволюции его взглядов на происходящее вся та так позорно провалившаяся операция?»[37]
«…Хотелось понаблюдать, – признался в этой беседе писатель, – и за самим фельдмаршалом во время разговора. Иногда тень на лице, кислая улыбка или скрытое злорадство в глазах дают для понимания характера человека больше, чем горы архивных документов о нем…»
Отказ Манштейна от встречи несколько изменил писательский замысел, и «Горячий снег», по признанию автора, «вылился в книгу несколько иного плана, чем она мыслилась вначале». «Главная и решающая цель», которую ставил перед собою писатель в романе, «создать ощущение описываемого времени, его атмосферу»[38].
34
Коробов В. Юрий Бондарев. М., 1984. С. 135.
35
См.: Коробов В. Юрий Бондарев. С. 135.
36
Коробов В. Юрий Бондарев. С. 137.
37
Елкин А. Судьба книг и рукописей. С. 1819.
38
Елкин А. Судьба книг и рукописей. С. 22.