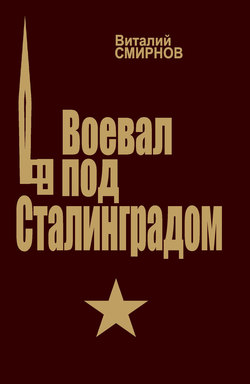Читать книгу Воевал под Сталинградом - Виталий Смирнов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
В «кольце смерти»
(Гайнан Амири)
ОглавлениеЯ стал солдатом на переднем крае,
На волжском огнестрельном берегу.
Я всю свою судьбу с тех пор равняю
На ту судьбу. Иначе не могу.
Гайнан Амири
У народного поэта Башкирии Мустая Карима есть стихотворение «Я ухожу на фронт», в котором описывается национальный обычай проводов джигита на войну. В нем поэт говорит не просто о любви к Родине, за которую собирается отомстить, не просто мечет громы и молнии на головы фашистских захватчиков, а обытовляет и интимизирует чувство священной ненависти, переполняющее его. Его любовь к Родине вырастает из конкретной люб-ви к маленькому сыну, к отцу, к красотам родного края, к родному Уралу, из верности своей национальной истории.
В стихотворении особую знаменательность приобретают конкретные бытовые детали: отец отдает джигиту своего коня, а мать вручает дедовский клинок. Так джигит становится не просто мстителем за Родину, но мстителем за свой род, как ее частицу, что придает особую психологическую достоверность образу:
Отец привел мне своего коня.
Скакун дрожал, он был горяч на диво,
Копытом землю бил нетерпеливо.
А мать вручила дедовский клинок,
Чтобы за павших отомстить я мог.
Я ухожу, товарищи, на фронт.
Отец, пускай в семье никто не тужит,
Акбуз твой верной правдой мне послужит,
Клинок, слезой твоей омытый, мать,
Меня в сраженьях будет защищать.
Я ухожу, товарищи, на фронт,
Чтоб стариков текла спокойно старость,
Чтоб нашим девушкам краса осталась,
Чтоб наш Урал всегда стоял могучий,
Чтобы над Белой не сгущались тучи.
Товарищи, я ухожу на фронт
За ту весну, что навсегда настанет,
За светлый сад, которым край наш станет,
За маленького сына моего
И родины любимой торжество.
Помимо отмеченных, тут масса других деталей, подсказывающих читателю, какие чувства обуревают героя стихотворения: даже верный конь дрожит и бьет копытом землю в нетерпеливом ожидании мщенья…Весьма многозначительна и вера уходящего на фронт джигита, что после его возвращения край родной станет светлым садом…
Я не знаю, как провожали на фронт Гайнана Амири, но едва ли так, как героя каримовского стихотворения: был он уже не молод, перешагнул за тридцатилетие, успел отслужить в армии, окончить пединститут, поработать в Башкирском научно-исследовательском институте языка и литературы, издать шесть прозаических и поэтических книжек на башкирском языке. Да и Акбузат стал бы для него обузой, потому что офицеру-связисту по роду своей фронтовой специальности чаще всего приходилось выступать в роли «пластуна».
Но настрой этого «джигита» был тот же, или почти тот, что и в лиро-эпическом рассказе Мустая Карима. Почему почти? Да потому, что Гайнан Амири уходил на фронт, когда прошло уже около года с начала войны: не лучшее для страны время сбило шапкозакидательские настроения, существенно поколебало оптимизм, заставило задуматься о своей фронтовой судьбе. Поэтому не случайно стихотворение, написанное Гайнаном Амири 2 мая 1942 года – в день, когда в будущем Краснознаменная Сталинградская, а пока просто 124-я отдельная стрелковая бригада отправилась с одной из станций Башкирии на фронт, называлось «Прощание».
Буду драться бесстрашно, а если
За какой-то чертой огневой
Я паду, пусть неспетые песни
Остаются навечно с тобой.
До свиданья, Башкирия, сыну
Ты не дай на нелегкой тропе
Оступиться, в безвестие сгинуть
И уже не вернуться к тебе!
Пристань счастья – страна Салавата,
Вдруг паду я, но знай, и тогда
Незакатная слава солдата
Возвратится к тебе навсегда.
Вера в «незакатную славу солдата», а не в реальное его бессмертие – это уже нечто новое, по сравнению с психологическим настроем каримовского джигита. Это уже философское утешение вернуться в страну Салавата хотя бы славным именем, хотя бы неспетой песней.
Гайнану Амири повезло: он вернулся на «пристань счастья», хотя и с ранами, но и с наградами, и прожил после Победы еще около сорока лет.
Можно предполагать, что бригада, в которой воевал Гайнан Амири, пришла на сталинградскую землю в двадцатых числах августа 1942 года, после уничтожительной бомбардировки города. Именно к этому времени относятся его первые поэтические отклики на события, участником и очевидцем которых он стал. В стихотворении, написанном в день рождения (25 августа), Гайнан Амири так воспроизводит картину фронтового Сталинграда:
День рожденья – день веселья,
Но не поднял я бокала
И на прожитые годы
Благодарно не взглянул:
Я смотрел вперед – над всею
Далью зарево пылало,
От пожара луч восхода
В бездне дыма утонул.
Задыхается от дыма
В грозном грохоте орудий
Город, подлыми врагами
Не поверженный в бою…
(Нет домов? – Осталось имя,
И его мы не забудем,
Не сдадим на поруганье,
Сбережем, как честь свою…)
Я рожден сегодня – значит,
Я в строю твоем, Россия,
Твой защитник – от рожденья
И до самого конца,
Потому что нынче начат
Жизни путь неугасимый,
Потому что день сраженья –
День рождения бойца.
Эта картина, потрясшая воображение поэта, повторяется и в стихотворении «Город горит», написанном на следующий день, в котором вновь звучит вера в непобедимость Сталинграда:
Пламя ползучее, пепел-зола,
Пир воронья, вакханалия зла,
Над головою – кошмарами Гойи
Смерчи проносятся смерти и горя,
Стены кирпичные плачут навзрыд
Город горит…
Наши родные проспекты горят,
«Апокалипсиса» пеплом парят
Наши дома – не Берлина, не Кёльна,
Оцепеневшему городу – больно!
Сердце – пылающий метеорит:
Город горит…
Города, враг, не касайся – не тронь!
Драться так драться: огонь за огонь,
Око за око, пеняй на себя ты!
С горем пришел? – Не уйдешь от расплаты:
Выживет, выстоит город распятый
Грудью закроем его,
И до чумного гнезда твоего
Мы доберемся еще – погоди…
Мы победим!
Стрелковой бригадой, в которую попал Гайнан Амири, командовал полковник Сергей Федорович Горохов, до войны окончивший военные академии имени Фрунзе и имени Молотова. Великую Отечественную он встретил в пограничном Перемышле начальником штаба 99-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа. В составе 26-й армии его дивизия удерживала врага на границе до конца июня 1941 года. Потом с боями пришлось отступать до Умани. Но отступление не было позорным бегством, потому что и дивизия, и ее начштаба за проявленное мужество были награждены орденом боевого Красного Знамени.
Прошел С. Ф. Горохов и через бои под Москвой, получив после стабилизации положения направление в распоряжение Южно-Уральского военного округа на должность командира 124-й стрелковой бригады, которую еще предстояло сформировать и подготовить к боям на сталинградской земле.
26 августа бригада сосредоточилась на левобережье напротив Сталинграда, а на следующий день Горохов получил приказ сформировать группу войск в составе подчиненной ему бригады, 242-го полка дивизии НКВД, отряда речных катеров и моряков и удерживать плацдарм в районе Сталинградского тракторного завода. Наступательные бои были тяжелыми, но гороховцам удалось освободить от немцев ряд поселков, прилегающих к СТЗ, и закрепиться на занятых рубежах. Более пяти месяцев Северная группа войск удерживала этот плацдарм, не сделав ни шагу назад. Еще до завершения Сталинградской битвы, в декабре 1942 года Горохов получил генеральское звание и был назначен заместителем командующего 51-й армией.
С середины октября и до начала нашего наступления гороховская группа сражалась в окружении. О кровопролитности боев красноречиво говорит только один факт: пятачок, защищаемый гороховцами, называли «кольцом смерти». Башкирский поэт писал стихи и в эти драматические дни – настолько велика была сила творчества. И в послевоенные годы, сопровождая свою лирику прозаическими преамбулами, воспроизводящими конкретные со-бытия, которые послужили толчком к созданию того или иного произведения. Вот, к примеру, стихотворение «Я должен пройти – сейчас!» с такой преамбулой: «Группа войск полковника С.Ф. Горохова 15 октября 1942 г. попала в окружение и по 19 ноября продолжала сражаться. Клочок приволжской земли, удерживаемый группой, в штабе фронта именовался «кольцом смерти». Телефонная и телеграфная связь со штармом была немыслима, а рация разбита. Мне – офицеру связи – следовало установить связь».
Поэтические детали, рассказывающие об этом событии, немногочисленны, поскольку каждодневная мясорубка повторялась с завидным постоянством, но весьма избирательны. Внимание поэта сосредоточено только на том, что выбивается из ставшей рутиной фронтовой повседневности, и на психологическом состоянии лирического героя, сосредоточенного на необходимости выполнить свой солдатский долг:
Мы в окружении.
«Смерти кольцо»
Могут прорвать лишь безглазые пули
Да воробьи…
Неподвижно лицо
Смерти костлявая косит вслепую.
Смерти пустыня – свистящий свинец.
Жизни твердыня – биенье сердец.
Падают градом снаряды с небес,
И окольцована смертью планета.
Выстоим, выживем: все-таки это
Наша земля мы хозяева здесь!..
…Взвод уничтожен руками врага.
Крик «Хенде хох!»
Одинока рука,
Сжата в кулак, – одинокий солдат
Руку свою поднимает в атаку:
Пусть он погибнет, но связка гранат
Верная гибель фашистскому танку!..
Редко дыханье моих батарей…
Боеприпасов – ничтожные крохи!
Сердцем приклад автомата согрей:
Выстрел – на выдохе,
Пуля – на вдохе…
Губы обуглены…
Голос эпохи
В шепоте-крике: «Снаряды! Скорей!»
«Дайте!
Снарядов!
Скорее!» – ору я.
«Чертова свадьба», в эфире пируя,
Связь уничтожила…
Скоро заря…
Жаль, я не птица – не в силах летать!
Смерти кольцо – темнотой окольцован
Должен я сжечь, перегрызть, разорвать,
Стать невидимкой,
Рекою свинцовой
Переползти, просочиться и стать
Вестником Мужества
Выжить, дожить
И до Чуйкова дойти, доложить!..
Пусть не сегодня застынет река,
Станут святыми мостами моими
Волжские ветры, сомкнув берега
Мрака и света во имя
Жизни – чтоб солнце, зарею лучась,
Мирно сияло над нашей страною!..
Что б ни случилось в дороге со мною,
Выживу, сдюжу надежную связь
Я обеспечу – сегодня, сейчас!
Аналогичную ситуацию воспроизводит Гайнан Амири и в стихотворении «Связь». Ее драматизм в том, что, как прозаически предуведомляет поэт, лирическому герою предстояло ночью пробраться по территории, занятой противником, до штаба 62-й армии шесть тысяч метров, каждый из которых мог в любую секунду оказаться последним. Ситуация эта, как замечает автор, страшнее «виденья подземной геенны». Стихотворение «Связь» показательно для башкирского поэта в том плане, как в эту трудную минуту в сознании его героя оживают национальные мифологические образы. Ему вспоминаются и Сират – мост тоньше волоска и острее пики, протянутый над адом. Сумевший пройти по нему – попадет в рай! И священный родник в Мекке – Зэм-Зэм, обладающий целебной силой. И священное дерево в раю – Гареш. Своим подвигом герой Гайнана Амири заслужил право на райскую жизнь, но сила его духа такова, что ему хочется оставить свою душу на родной земле, которая воспитала и питала его мужество в дни кровопролитных сражений:
Прекрасней Гареша – Урала гряда,
Целебен Зэм-Зэм,
но живая вода
Моей Агидели – целебней!
И здесь уже, наряду с национальной традицией, проявляется одна из закономерностей советской лирики фронтовых лет. Чувство любви к Родине в ней предстает как проявление высшего нравственного долга, завещанного солдату его предками, впитанного с молоком матери, взращенного с детства всем природным и бытовым окружением. Всем тем, что зовется малой родиной.
В дни Сталинградской битвы Гайнан Амири выполнял важное партийное поручение. На него была возложена охрана боевого знамени 124-й стрелковой бригады, о чем поэт рассказал в стихотворении «Бессмертие», написанном в 1973 году:
В сиянье безоблачных дней
Никто не забыт и ничто не забыто,
Но не было чище и выше зенита
В пылающей жизни моей,
Чем этот приказ…
Мы дошли до рейхстага,
Пришлось разрывать и крушить
Кольцо за кольцом,
Ненавистного гада
В пылающих кольцах душить,
Случалось от боли стонать, леденея,
Любимых друзей хоронить,
Но не было в жизни задачи важнее,
Чем Знамя от пуль сохранить!..
Эти мысли развивает поэт и в «Балладе о полковом знамени», посвященной С. Ф.Горохову.
Надолго осталась в памяти Гайнана Амири и одна из трагических страниц Сталинградской битвы, когда в конце августа 1942 года фашисты потопили пароход с детьми, которые переправлялись на левобережье. Этому событию посвящены два его стихотворения – «Пароход» (оно написано по свежим следам) и «Поэзия моя», которое появилось спустя многие годы. Последнее построено как диалог поэта со своей Музой. Написано оно, видимо, в год двадцатилетия Сталинградской победы, когда поэт посетил героический город, оставивший в его памяти незаживающие раны:
Вдруг, оглянувшись, смотришь на года,
Дымящиеся в зареве бомбежек…
Воспоминанья, вы – сильнее лет,
Больнее боли, выше вдохновенья:
Вот мой дружок, хрипя в кровавой пене,
Еще живой – его давно уж нет
Мне шепчет – исчезающий вдали
Кровавыми губами: «Пристрели…»
И зори – окровавлены – горят,
Сгорают – задыхаются в закате,
И солнце – словно раненый солдат,
Ночующий в далеком медсанбате.
И мирная жизнь не может погасить в памяти лирического героя картину гибнущего парохода, скорбное чувство невозможности спасти «детишек, задыхающихся в трюмах». «Оставшись навсегда на поле боя», Муза поэта по-прежнему «угрюма, спокойствие не в силах обрести».
Вообще в стихах Гайнана Амири образы кровавого фронтового детства возникают неоднократно. В стихотворении «Сердце матери» это образ «девчушки без руки», приходившей в солдатские окопы:
Мы разговаривали с ней,
Шутили, на руках
Носили, ели вместе с ней
И не было еды вкусней,
Чем в наших котелках.
Смеялась девочка, пустым
Махая рукавом:
«Сказала мама: победим
Фашистов, а потом…»
А потом, верит девочка, рука отрастет вновь. И солдаты вынуждены, роняя слезу, поддерживать ее святую веру…
Последнее стихотворение, написанное Гайнаном Амири на сталинградской земле, «Прощание со Сталинградом». Датировано оно 2 февраля 1943 года и наполнено неукротимой верой в Победу, с которой уходили на Запад солдаты, сломавшие фашистам хребет в одной из исторических битв двадцатого века:
Прощаться пришла пора.
Клянемся: за тяжесть ран
Безмолвных твоих руин
Заплатит еще Берлин!
Клянемся тебе: в бою
Сломив, сокрушив врага,
Мы вылечим боль твою,
Великая Мать-река,
Мы выметем сор беды
И высушим соль слез,
Возвысим твои мосты
До самых высоких звезд!..