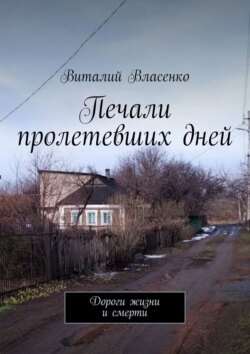Читать книгу Печали пролетевших дней. Дороги жизни и смерти - Виталий Власенко - Страница 14
Глава І
Родословная Савостьяна Лаврентьевича
ОглавлениеУ Савостьяна Лаврентьевича и Александры были дети:
Елисавета Савостьяновна Власенкова – год рождения 1883 г.
Тарас Савостьянович Власенков – год рождения 1886 г.
Григорий Савостьянович Власенков – год рождения 1891 г.\двойняшка
Татьяна Савостьяновна Власенкова – год рождения 1891 г./ двойняшка
Роман Савостьянович Власенков – год рождения 1893 г.
Федосей Савостьянович Власенков – год рождения 1896 г.
Лаврентий Савостьянович Власенков – год рождения 1898 г.
Герасим Савостьянович Власенков – год рождения 1901 г.
Елена Савостьяновна Власенкова – рождения 1906 г.
К сожалению фото многих родственников восстановить не удалось. Есть только скупые данные о такой большой семье, но и этого будет достаточно чтобы восстановить общую картину.
Фото Тараса и Домны 1955 год
Тарас Савостьянович в возрасте 22 лет, в 1908 году женился, взял в жены Улиту7 Павловну Давыденко, у них родилась дочь, которая в возрасте одного года умерла, через 30—40 дней умерла и мать. Улита Павловна пользовалась уважением у односельчан, и ещё в 1961 году, когда я (Иван Лаврентьевич) был в Белой Дуброве, её имя произносили протяжно и осторожно…
В 1914 году Тарас Савостьянович снова женился, взял Домну8 Андреевну из села Колодливо, Костюковичевского района Могилёвской обл. В том же году он выехал на Донбасс, в Юзовку (Донецк), на рудник Ново-Григорьевский, около завода Басэ. Переезд его был не случайным, поскольку в 1916 году деревню поразила «испанка», люди умирали семьями. В этом году началась первая мировая война, но Тарас говорил: «Нас от войны царица спасёт!» – царица – это шахта, т.к. шахтёров на военную службу не брали. Туда же и в то же время хотел поступать Федосей, но на шахте проходили медкомиссию и по зрению он не прошёл, а вот на фронт взяли.
В 1916 году Тарас работал на Святогоровском руднике, сюда же приехала и жена его с Ефимом на руках. И что же она тут увидела? Тарас жил в шахтной квартире. Бани при шахте не было. С работы он принёс кусок угля, растопил печь – плиты красные, тепло, не то, что в Белой Дуброве!
После работы, шахтёры, что бы чем-то себя занять, играли в шашки. А украинки хитрые – не хотели, что бы им грязь в квартиру носили, разуваться тогда было ещё не модно, ну и давай все к Домне! Однажды сын их Ефимка играл сам в шашки и одна где то потерялась. Шахтёры пришли играть – одной шашки не хватает! Тарас – на Домну: «Давай шашку!», а та ему: «Нужна мне эта грязь!»
Осерчал Тарас и ушёл, и компания разошлась. А Тарас пошёл по колее и зашёл туда, где проходило собрание верующих. Прослушал всё собрание баптистов, пришёл домой и говорит Домне: «Сходила бы ты, да послушала, что там говорят» и она не ожидая напоминания в первую же возможность пошла на собрание и вскоре уверовала.
Через некоторое время уверовал в Бога и Тарас Савостьянович Власенко. В 1918 г. вернулся в Белую Дуброву с женой, и сыновьями Ефимом и Андреем, где жили отец Савостьян с матерью Александрой, две сестры его, и два брата его Федос и Роман – оба фронтовики.
В 1919 снова вернулся на шахту Подольского (Святогоровский рудник), потом переехал на шахту Грибнева, которая была на земле села Гродовка, потом стала «Димитрова 5/6», здесь Тарас и похоронил отца своего Савостьяна Лаврентьевича Власенко. Во время войны 1941—1945 жил в селе Óрловка – земля кормила. В начале 1947 года приехал Тарас Савостьянович без семьи в Доброполье на шахту 17/18 (теперь «Алмазная») в семью Лаврентия и поступил работать на шахту, а ведь ему тогда было уже 61! Он приехал со своим хлебом, ячменным, в печи печённым! В сравнении с тем, который нам (вспом. Иван Лаврентьевич) на карточки давали – это был хлеб превосходный!
Год был голодный, работал Тарас Савостьянович во вторую смену, приходил домой около 11 часов вечера, борщ Ирина Васильевна, мама Ивана Лаврентьевича варила с серой капустой (листья, которые остаются на корне после срезанной головки), ужин его состоял из этого борща, своего хлеба и кусочка мяса. В тот голодный год решили зарезать вторую корову, потому немного мяса уделялось каждому ежедневно. Дети у дяди Тарасы были, вспоминает Иван Лаврентьевич:
Фото Ефима Тарасовича
Власенко Ефим Тарасович Дата рождения 20.01.1916; Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., рудник Ново-Григорьевский; Украинская ССР, Сталинская обл., Ушёл на войну в ноябре 1941; Воинское звание инженер-лейтенант; мл. лейтенант Воинская часть 20-й запасной истребительный авиационный полк. Вернулся после войны с наградами Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Власенко Андрей Тарасович Дата рождения 1917 Место рождения Сталинская обл., Красноармейский рудник Димитрова, Призывался Васильковским РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Воинское звание сержант. Службу проходил в 80 морской стрелковой бригаде. Во время войны 19.05.1942 пропал без вести Карело-Финская ССР, Кестеньгское направление. Получили последнее его письмо из Очакова, и до сих пор о нём нет никаких известий – вероятно погиб.
Фото Якова Тарасовича
Власенко Яков Тарасович Дата рождения 05.10.1921; Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Красноармейский район, шахта 5—6 им. Димитрова; В апреле 1941 ушёл в армию. Имел звание гвардии младший лейтенант; Службу проходил и воевал в составе 53 гвардейской танковой бригады. Вернулся с наградой Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Фото Зины Тарасовны
Сара – взята на принудительные работы в Германию, где и работала до прихода русских. (Лида Лаврентьевна, сестра Ивана Лаврентьевича в 1943 тоже была взята в Германию, но в виду наступления русской армии немцам было не до того – и она домой с железнодорожной станции Доброполье вернулась, Лёня по возрасту не подходил для Германии, Александра – ещё моложе, а Валя в то время совсем ещё девочкой была). Сара по приезду с Германии изменила своё имя на Зину. Метрическую она потеряла, и когда подавала документы в паспортный стол, паспортистка посмотрела на подделку и сказала: «Все вы были Гапками, а стали Зинами» – это относилось ко всем, кто менял метрические данные. Гапка – оскорбительное жаргонное слово, не удивительно такое слышать в лагере. Смысл выражения, была беззаконной, а теперь другая. А причину смены имени она объясняла тем, что мастер-немец, при случае её упрекал: «Юдеменш!» – что значит «Еврейка!» и ещё её называл «Штромменш» – «Соломенный человек» – это за её высокий рост и худощавость, и доводил её до того, что она имела страстное желание – когда придут русские – убить его.
Но был и другой мастер, который, видя, как девчата в ночь хотят спать, отправлял её отдохнуть, а сам разбирал её станок, делая вид, что он его ремонтирует. Станок был волочильный: из толстой проволоки тянули более тонкую проволоку. Приехав из Германии, Зина вышла замуж, за Золотарёва, уехала с ним в Ташкент, пробыла (не говорю, прожила), там с ним два года и вернулась, домой.
Снова к себе на родину в родные места своих родителей. Я лично помню Зину Тарасовну, рослая крепкая женщина со слабой улыбкой, всегда говорила медленно и тихо. Именно с ней папа очень долго разговаривал вечерами, а теперь все описанное выше, нам говорит о чем был разговор.
Вышла замуж за Невмержицкого. Детей у неё не было. Мужа она похоронила и потом у неё доживала её мать Домна Андреевна. После смерти матери она пришла к Богу – Утешителю в скорбях, была членом Красноармейской церкви ЕХБ9 и в сентябре 2003 года в возрасте восьмидесяти лет окончила свои странствования. Зину Тарасовну до смерти, досматривала её подруга Люба Степановна Середа, а потом уступила ей свою квартиру, на первом этаже и пошла, жить в её равноценную, на втором этаже. Когда Зина совсем ослабела от болезни – приехала её сестра Шура из Керчи её досматривать.
Тарас Савостьянович перешёл жить в дедушки Гончарука хату, куда переехала потом его семья, позже он получил квартиру – домик-особнячок (по улице Малиновского), который оставил Лёне, а сам уехал к Якову – сыну своему на Мариновскую площадку, где 25 февраля 1959 года, умер.
В воспитании детей между Тарасом и Домной Андреевной были разномнения. Тарас применял строгое воспитание, а Домна Андреевна – либеральное. Потому, когда требовалось детей наказывать – отец отдавал всё положенное. С возрастом детей увеличивались и «воздаяния» им. Мать, не востерпев этого, стала ломать дверь с воплем «Сибирник!»10. Видя такое отношение к его методу воспитания, отец оставил детей на воспитание матери, пророчил ей соответствующие плоды.
Прошло довольно времени. Приходит Тарас домой, а Домна сидит с синяком под глазом. Поняв в чем дело, он жене посочувствовал: «Да кто же это тебя так обезобразил, что ты стала однобокая, нужно было и под другой глаз!» Домна молчала. Пока дойдём до Лаврентия Савостьяновича, нужно всех по ряду посетить. Елисавета в семье была первая, жила она при отце и матери, выполняла домашние работы. Однажды она стала наливать щи в миску, а миска от муки оказалась не вымыта, мать ей крикнула: «Ты что, слепая? Не видишь куда льёшь?» И здесь доця заплакала и сказала: «Да, я не вижу»… Зрение стало резко падать вплоть до полной слепоты. Замужем она никогда не была, так при матери в Белой Дуброве и прожила до 1946 года (родилась в 1883). С Белой Дубровы её с матерью и привёз на Донбасс Роман Савостьянович Власенко, и здесь им пришлось доживать. Умерла она у Тараса Савостьяновича Власенко в Доброполье, похоронена на Ново-Марьевском кладбище на окраине города Доброполье, могила затеряна.
Григорий Савостьянович Власенко родился в 1891 году, в 1914 был призван на фронт и как в воду канул. Как позже оказалось, он был в плену, а потом, как снег на голову, явился домой! Мать с радостью встретила и стала спрашивать, почему не написал ни одного письма, а он отвечал: «Зачем? Вот пришёл и хватит!» – чувства матери для него были непонятны. Женился Григорий Савостьянович в 1927 году. Имел детей: Любу, Венедикта, Раю и Ромика (Роман Григорьевич Власенко).
Жена его была Марина, кажется, одно время увлекалась астрологией и картами. Григорий о Боге и слышать не хотел. Когда мы (Иван Лаврентьевич) с папой Лаврентием Савостьяновичем были в Белой Дуброве в 1959 году, кажется, Венедикт беседовал с папой о Боге, в виду вещественного доказательства он ощупал дядьке левый бок и сказал: «Ха! Так вон оно что! У тебя одного ребра недостаёт!», намекая на то, что Бог жену сотворил из ребра Адама и теперь у мужчины не должно недоставать одного ребра. Когда папа спросил, рождаются ли у безногого отца безногие дети, у него «Ха!» не нашлось…
Григорий Савостьянович Власенко, в 1938 году выехал в Москву, где работал грузчиком. Погиб при обороне Москвы в 1941 году при «хождениях». Хождение – это значит ходить около линии фронта, не имея никакого оружия. Между ходящими находились люди, обвязанные взрывчаткой – «самураи». Их задача была бросаться под танки противника, в случае их появления. При обороне Москвы погибло около трёх миллионов русского народа, хорошо, что битва была зимой, летом бы разразилась холера.
В 1940 г в селе было 250 дворов. Село Белая Дуброва во время Второй мировой войны, в связи с деятельностью партизан, немцы сожгли. В Великую Отечественную войну в сентябре 1943 г. немецко-фашистские захватчики сожгли 140 дворов. Освобождена деревня 28.9.1943. На её территории находятся 2 братские могилы советских воинов, которые погибли в 1941 и 1943 гг. И ещё постройка в Белой Дуброве – сарай на Власенковом старом дворе, я (Иван Лаврентьевич) его сфотографировал в 1961 году. Говорят, он был построен без употребления пилы, а потому дерево дольше стоит.
Люба Григорьевна, дочь Григория Савостьяновича Власенко была захвачена полицией, и вместе с другими, закрыта в какой-то сарай в другом селе. Но один из конвоиров, кажется немец, объяснил ей, что их всех утром расстреляют, а так как она похожа на его жену – он её освободил и указал дорогу куда спасаться. Когда Анатолий Лаврентьевич говорил ей, что это её Бог спас – она не верила.
Татьяна Савостьяновна Власенко родилась с Григорием в один день – они двойняшки. Но это была полная противоположность! Голос у Татьяны был певучий, минорного тона. Она была сострадательная и внимательная к тем, с кем общалась.
В 1919 году 28 лет от роду, вышла замуж за Яковлева Василия Федоровича, который в 1918 году тоже пришёл с плена. А как невестам в приданое были положены перины – дали и ей.
Но она часто приходила домой и подолгу засиживалась. Сознавая, что уже пора идти домой, говорила: «Вот пойду ужо», а братья говорили: «Да посиди, Татьяна». А она через время опять: «Сижу я, не йду я. Прошшайте – пойду я», а они опять: «Да посиди, Татьяна».
И как это повторялось по нескольку раз за вечер, братья начинали уже со смехом говорить «Да посиди, Татьяна!», тогда она, видя, что уже давно пора идти, говорила: «Ай! Да ну вас!» и уходила. А так как в своей семье ей было лучше, чем там куда она вышла замуж, она однажды пришла пораньше домой, где выросла и заявила, что больше отсюда никуда не пойдёт! Романька пошёл к Васке мужу и сказал, чтобы тот не отдавал Татьяне перину.
Потом, когда пришло время ложиться спать, брат и сказал сестре: «Спать будешь на своей перине!», пришлось подчиниться.
Так и нажили они с Василием Федоровичем Яковлевым детей: Варвару – её Валей звали, Надю, Любу и Матвея. В 1937 году Василий Федорович решил перебраться поближе к своим братьям, взял и приехал.
Фото село Светлое
Светлое – посёлок, центр сельского Совета депутатов трудящихся. Расположено в 25 км к юго-западу от районного центра и в 20 км от ближайшей железнодорожной станции Доброполье. Дворов – 430. Население – 1211 человек. Сельсовету подчинены посёлки Красноярское, Новый Донбасс, Шевченко. Село Светлое основано в 1898 году. Советская власть установлена в январе 1918 года.
На территории села Светлого, размещён ордена Трудового Красного Знамени, совхоз «Добропольский» Донецкого специализированного треста, овоще-молочных совхозов. Это – крупное современное высокомеханизированное хозяйство, специализирующееся на производстве молока и мяса.
В совхозе – 4 производственных отделения, 10 бригад, 20 ферм, в т. ч. 12 – крупного рогатого скота. В 1974 году совхоз вышел победителем в областном социалистическом соревновании работников сельского хозяйства и награждён переходящим призом имени Паши Ангелиной11.
Устроился Василий Федорович на работу именно в этот совхоз «Добропольский», который гремел на весь союз и работал там «ливечеком». Пришёл он как-то раз к Лаврентию Савостьяновичу такой довольный. А Лаврентий спрашивает: «Кем работаешь? Что ты в совхозе делаешь?», а он говорит – я ливечек. Ну, для нас, выросших возле шахты, эта профессия была неизвестна, стали расспрашивать, он объяснил, что теперь не замерзает, обувь у него понапихана шерстью, кушать у него вволю, и там же возле ливечек он и спит.
Стали, таки добиваться, что за такая работа? А он отвечает: «Ну, вот я утром овечек выпускаю, а на ночь в овчарню загоняю и всю ночь у ливечек и нахожусь!» Только тогда стало понятно, что ему поручили овец пасти, и он неотлучно возле них находится!
Татьяна с семьёй находилась дома, но Василий решил обзавестись надёжным помощником и вызвал к себе Матвея. Дочь Валя нашла себе работу, в посёлке Гродовка Донецкая область, где и замуж вышла, и имела семью. В 1941 году Василий с Матвеем эвакуировали скот на восток. И когда скрылись, со скотом за горизонт больше о них никто не слышал до сих пор. Похоже, они погибли… Люба и Надя после войны были на строительных работах в город Сталино (Донецке). Когда Павел Лаврентьевич, их племянник учился в техникуме – он их там видел, но они на Донбассе не задержались – в Минске начал строиться камвольный12 комбинат, туда они и уехали, после постройки на нём, же и работали до пенсии. Получили квартиру в Минске, так вдвоём и жили. Люба давно умерла, а Надя – в 2004 году на письма ещё отвечала, но вот на два последних в 2005 – ответа нет…
Татьяна Савостьяновна приезжала и до войны. Однажды, когда папы Лаврентия Савостьяновича, не было дома (он, кажется, был в Нальчике, где нашёл работу, и намеревался, семью туда забрать) приехала, тётя Татьяна. Вере Лаврентьевне, племяннице Татьяны было, тогда около двух лет, и она сильно болела. Мама держала Веру на руках, а у неё по зрачкам пошёл песочек – это признак скорой смерти.
Тётя Татьяна внесла в дом звуки своего певучего голоса, взяла Веру на руки, осмотрела деточку милую и предложила маме помолиться о ней. Молились они равно усердно. После молитвы тётя дала Вере детское жестяное ведёрочко, расписанное масляными красками, Вера взяла его, осмотрела, стала им играться – мама не верила своим глазам – Бог возвратил её к жизни, она выздоровела!
После того, как в Белой Дуброве Татьяне одной жить было трудно – она приезжала к Лаврентию с надеждой дожить у него до смерти, но он сказал ей, что при его жизни он ей обещает это, а после его смерти – неизвестно как сложатся обстоятельства.
Но потом Люба и Надя получили квартиру – у них она и дожила до 19 марта 1968 года, там и умерла.
Фото Роман и Домна 28.08.1966 Макеевка
Роман Савостьянович родился в 1893 году – это был человек неунывающего характера. В отроческом возрасте они с братом Федосом пасли сельских коров. У пастухов было два неотъемлемых предмета – палка и предлинный кнут. Этим кнутом, взмахивая в определённом направлении, пастухи издавали такой щелчок, похожий на выстрел пистолета и ещё громче, этим же кнутом и скотину дисциплинировали. Однажды вечером, возвращая скотину, домой, подростки (сельские девчата и хлопцы) попросили: «Пастух, леснú!» (кнутом издай щелчок). В селе жила еврейская семья и у них была дочь Хайка, которая и находилась среди подростков. ХАЙКА – переводится как рот. От общеупотребительного «хаять», хай ха́йка- презрительно, «еврейка»., Как и в польском сhаjа «еврей», от еврейск. имени Хаим13, женское Хая.
Роман погнался за Хайкой, та – кругом постройки и опять – на улицу. А Федос желая доставить неожиданность и припугнуть Хайку, подрассчитал время её появления из-за угла и, хотел было леснуть у неё над головой, но она выбежала чуть раньше, и удар пришёлся по её груди – рассёк он ей и одежду и кожу… Дело пастухов стало известно отцу Савостьяну Лаврентьевичу, и он поставил Федосу условие: «Иди, поклонись Хайке и попроси прощения или я тебя выпорю!» Хайке! Поклониться?! – да это позор на всё село! Нет, пусть лучше отец выпорет – решил Федос.
Романьке стало жаль брата – отец зря руками не махал, ручищи здоровенные были. Решил он повести брата к Хайке – полез на чердачок, где неслись куры, набрал яиц, сам впереди, а за ним Федос идёт и утверждает, что кланяться Хайке он не станет. Роман посадил брата на дворе, зашёл в избу к евреям и стал просить за брата и объяснять, что это сделано не умышленно, что они очень об этом сожалеют, при этом он освободил свои карманы, выкладывая на стол их содержимое (яйца). Мать Хайки жаловалась, как доченьке больно было, но отпустила с миром. Роман поблагодарил за прощение, вышел к брату. Федос усомнился – а если отец спросит, кланялся ли он Хайке, на что Роман махнул рукой и сказал, оно отцу не нужно – были мы у них и довольно, гроза миновала.
В их селе все дворы были загорожены так, что на огород скотина доступа не имела, свиньи ходили так же как и собаки – без привязи по улице со двора – во двор. «Соседями их были «пасянки» – свиней своих они держали, но их не кормили, и бегали эти звери – куда их ноги могли донести в поисках пищи. Однако с «пасянками» они разделяли детские игры, и было их не мало. Я думал, что это их фамилия, оказалось – да, только уличная. А почему же? Да у них отец разговаривал как «пось», а что такое пось – ну, да собака! Он так разговаривал – гу! гу! – лающим способом. Ну, а раз отец получил прозвище «пось», то и дети у него «пасянки». – вспоминает Федос.
«У Александры Игнатьевны фартук был с утолщенными на концах завязками – это был инструмент для усмирения, непослушных. Он был всегда при себе и хорошо помогал» – вспоминает Федос.
В 1914 году взяли Романа в армию, отправили на фронт в Галицию – западную Украину, дали ему, как и всем, винтовку и вдоволь патронов. Его задача была – стрелять на запад – в сторону противника без прицела, а как за каждым выстрелом нужно дёргать затвор – набил он мозоли на правой руке. Война была невесть за что, и решил он, это сомнительное занятие оставить. Когда противник пошёл в наступление, бросил он винтовку, схватился руками за живот и… попал в плен. Отправили его в концлагерь, огорожен он был колючей проволокой и через него протекал ручей, в котором пленные умывались. В том лагере было два пленных поляка, которые никогда не мылись, от этого их кожа на руках и лице покрылась панцирем как у черепахи. Надзиратель приказал силой этих двух поляков бросить в воду, а когда они отмокли и эти панцири поотпадали, так кожа у них оказалась как у детей.
Кормили их как в концлагере. Часто вместо еды привозили в бочках кровь скотскую с бойни, а она была уже с несвежим запахом – отвратительная! Наконец пленных распределили по хозяйствам. Хозяин дал им работу на мельнице и, однажды, когда отлучался, показал, что когда нужно будет – вот этот жёлоб повернёшь в сторону. Но бестолковый русский махал руками и доказывал: «Никс форштейн!» – не понимаю! Хозяин, видя, что с этой бестолочью не договоришься – отлучился, а когда оказалось нужно – этот «бестолковый русский» жёлоб отбросил. Хозяин, вернувшись, сказал: «Никс форштейн?» – «Форштейн!»
Потом их отправили с другими пленными работать в виноградник. О! Это красота! Никакого надсмотрщика – хошь – работай, хошь – лежи. Да за какие гроши мы здесь будем спины гнуть? – Сидим! Приходим к столу – скудновато, ну мы так и работать будем! – Сидим! Хлеба ещё меньше, а суп – как ясное небо. Да сколько же они нас будут голодом морить!? Анну давай поработаем! Приходим и глазам не верим! Хлеб! И даже мясо в супе! Да густой! Оказывается хозяйка выходила на балкон и в бинокль за ними наблюдала: сидите? – так и кушать будете, работаете – и на столе соответственно.
Вильге́льм Го́тлиб (Васи́лий Го́тлибович) Кри́стер (1812, Саксония – 1890, Киев) – садовод и предприниматель, основатель садоводческой фирмы и агрошколы в Киеве. В советское время В. Кристер и его фирма были малоизвестны, теперь же киевоведы утверждают, что именно благодаря деятельности питомника и школы Кристера Киев к XX веку приобрёл репутацию одного из самых озеленённых городов мира. В 1848 году он купил у князя Эстергази участок площадью 38 десятин (около 40 га) на Приорке (в то время – предместье Киева), а затем и переехал на это место.
В 1850 году основал фирму «Садоводство и семенное хозяйство В. Кристер», которая стала впоследствии знаменитым питомником, поставлявшим саженцы плодовых и декоративных растений не только частным садоводам, но и для благоустройства парковых зон в Киеве. Позже на базе этого хозяйства была открыта агрошкола, выпускники которой работали садовниками по всей Украине. В хозяйстве имелись также виноградники, огороды, молочная ферма, пасека и рыборазводные пруды.
Умер В. Г. Кристер в 1890 году и был похоронен на территории своей школы. Могила сохранилась, но находится в заброшенном состоянии, с неё украдено мраморное надгробие.
На месте Бывшего садового хозяйства длительное время находились теплицы цветоводства, затем оно было частично застроено жилыми массивами, незастроенная территория известна как урочище Горка Кристера. Кристерова горка – историческая местность в нынешнем Подольском районе (Ветряные горы) Киева. Сейчас так называют ландшафтно-парковую зону вдоль улицы Осиповского, ограниченную улицами Красицкого, Вышгородской, Ветряные горы и Западинской. Материал из Википедии.
Вернувшись, домой из плена, Роман с Лаврентием отправились искать работу и поехали в Киев. Там нашли работу в оранжерее цветовода Кристера. Но поработав, немного решили, ехать на Донбасс. Какое-то расстояние они шли пешком, несколько дней голодные, молодые здоровые парни. Путь им предстоял 800 километров.
Я как автор долго думал, стоит ли этот эпизод из жизни помещать в эту книгу, но чтобы как можно достовернее описать крайнее отчаяние и безысходность, решил таки это событие из воспоминаний дедов оставить на этой странице.
Голодные до отчаяния, они дошли до того, что в экскрементах человеческих стали искать, по их мнению, съедобные компоненты – это были наспех проглоченные фрукты и не сваренные как должно. Смотря на эти «фрукты» они спрашивали друг друга: «Оботрём?» И когда такое ели, то потом долго страдали от изнурительного расстройства и болели очень. Однако, не теряя оптимизма, опять друг друга спрашивали: «Ну что? Оботрём?» когда уже под ногами была только земля, вообще ничего не было.
Подвигаясь на восток – положение менялось. И однажды Лаврентий увидел возвращающегося Романа, а в руках у него была большая белая булка хлеба – ну! Это уже можно сказать – спасение! И так, приехали они на Святогоровский рудник, здесь уже работали и Тарас с Федосом – это был год 1919. Устроились в шахту работать. У Тараса была корова, которой нужен был корм. Роман с Федосом договорились у кого-то в селе Святогоровка за корм и за волов для перевозки корма, «а цеж волы, їх же треба вовремя кормить», так они возьми да и задержись в дороге. Ох, сколько упрёков пришлось им выслушать от хозяев – Федос это всю жизнь помнил.
Роман Савостьянович не сразу уверовал в Бога, а всё свободное от работы время проводил на вечёрках. И, когда его однажды спросили о Белозёрке (город Белозерское Донецкая область), он сказал: «Да, я знаю, там когда-то жили помещики Ходусы и Савчеки, только и хозяев было – хутор отрубной, крайний, малонаселенный, и мы туда ходили на вечёрки».
В истории Добропольского района сохранились архивные данные старожилов о наших хуторах, которые сегодня разрослись уже в города.
Одним из таких старых хуторов на окраине Добропольского района граничащим с хуторами Червоный шлях и Собачевка, располагался до революции хутор Белозерка.
При заселении земель Добропольского района в начале двадцатого века, различные слои населения селились в наших местах. В Белозерку в 1913 году приехали крестьяне из Таврии основали здесь свои имения. Зажиточные крестьяне в этих местах умели и хорошо работать и красиво отдыхать.
В эти места любила ходить на отдых и Елена Васильевна Гончарук. Земли много места плодородные, занялись овощной продукцией. Среди местных жителей не было неурядиц и каких либо конфликтов. Жили люди и даже не думали что в скором будущем советская власть изменит все не в их пользу.
Фото Ходус с дочерью
А через короткое время все очень изменилось. Знаменитые фамилии родов Савченко, Ходус, Тупольский, Рубель и другие. Их приехало несколько десятков. Место помещики выбрали не случайно, так как здесь рядом проходил Муравский шлях. И по нему ходили и чумаки и проезжали на ярмарку торговцы, с товаром из Харьковской, Белгородской, Курской губернии. Тут они становились на ночевку, приглянулись им эти места, так и поселились. Скорее всего, и Гончарук заехал этой дорогой в эти места вместе с Натальей.
Известные помещики Таврии занялись украшением здешних мест, стали сажать сады, сортовыми саженцами, плодовые и ягодные кустарники. На дикой земле целины, где только носились махновцы и скифы, зацвела заплодородила земля. В культурном местечке поставили лавочки, сделали парковую зону и посадили большие насаждения культивированной сирени. Весенними вечерами аромат сирени лёгким ветерком разносился на всю округу. Особенно пышно и красиво цвела белая сирень. Говорок таврический, называл сирень ту билозиркою. А грозди белой пушистой сирени свисали как виноград, где каждый цветочек был звёздочкой. А зирка с таврического наречия это звезда. Так и вошло в наречие Добропольского района до наших дней название хутора – Билозирка, позже Белозерка, а сегодня это мощный шахтёрский город Белозерское. Лучшее место для гулянок, наши деды знали такие места.
Проработав на шахте до 1925 года, Роман пошёл работать на огороды совхоза Горняк №2. В 1926 году он берёт Лаврентия – запрягает лошадь, вожжи передаёт брату и говорит: «Едем невесту сватать!», да ему уже и пора было – тридцать три. Но куда ехать? В село Доброполье! Это село Лаврентий хорошо знал, кто, где живёт тоже, поэтому, подъезжая, к подходящему двору Лаврентий спрашивал: «Сюда?» – «Нет, дальше!», «Сюда?» – «Нет, дальше!», «А кого же?» – тревожно спрашивал брат. «Известную!» – был ответ, ехали дальше. «Сюда?» – «Нет, дальше!», и когда дальше оставался один двор, Лаврентий упавшим голосом спросил «Дальше?», «Ну вот, и приехали, хоть долго, зато дальше некуды!» Тут и жила Домна Тимофеевна Чмуль, дочь известного после революции баптистского проповедника на Донбассе.
Прошло бракосочетание и переселились они на станцию Гришино. Купил ли он или построил, но дом их был крыт железом, просторный, так, что когда в 1929 году Лаврентий решил переехать туда же, то стали они жить вдвоём в этом доме с семьями, пока Лаврентий купил хату. А как в то время был сильно развит ночной воровской промысел, решили они однажды устроить сигнализацию по тогдашнему способу. Поставили скамейку, на скамейку вёдра, так, что при малейшем постороннем движении всё это устройство зазвенит, и легли спать. «Сигнализация» не подвела. Чуть свет раздался грохот, Роман вскочил, зовёт Лаврентия и топором производит звуки, а бестолковый жулик не внимает этому и продолжает беспокоить «сигнализацию». Решили взглянуть на него. О! Узнали – Петька! Куры же встают рано – и пошёл петух по этим вёдрам ходить! Долго они вспоминали свою храбрость против петуха.
Когда Лаврентий купил себе недостроенную хату, Роман сжалился над людьми, просившимися на квартиру, и пустил их. Они же, прожив несколько времени, сказали, что та часть дома, в которой они живут, принадлежит им, поэтому никакого разговора о плате и быть не может, поэтому дом пришлось продать, а новый хозяин укротил строптивых и дом от них освободил.
Роман купил хатёнку на Краковском посёлке Красноармейский район, Донецкой области, где прошла основная часть семейной жизни. В войну к нему во двор зашёл немец и он с ним перебросился несколькими словами по-немецки, а тот сообщил в комендатуру, что есть понимающий по-немецки. Романа вызвали в комендатуру, разговаривала с ним женщина и предлагала работать у них переводчиком, но он, зная о возможных последствиях, ответил, что был в плену в сельской местности и там усвоил несколько немецких фраз, а переводчиком никак быть не может. Женщина ему сказала, что это по желанию и отпустила. А как это стало известно одному русскому полицаю14, то он, Романа и упрекал в том, что он, наверное, надеется, что русские вернутся, на что Роман ему говорил, что бы он, с этим осторожно обходился. После, когда этот полицай отсидел десять лет и увидел Романа, то сказал, что много раз Романа в тюрьме вспоминал.
Вот дети Романа и Домны Тимофеевны: Женя, Вера, Тавифа, Валя, Надя и Павел. В конце 50-х годов Роман начал строить себе просторный дом. Вера работала диспетчером в Красноармейской автобазе. Построил Роман просторный дом, и жили они в нём вдвоём – в одной комнате, остальные комнаты ждали своих жильцов.
Когда в середине 60-х годов в Красноармейске были организованы курсы регентов, я (Иван Лаврентьевич) часто приезжал к дяде Роману на ночь, потом мы с ним ездили в Донецк и к Федосу в хутор Завитний. Тогда он мне и рассказывал, всё что помнил.
Но для меня как для автора этой книги – это уже история, история моих праотцев. Благодаря моим потомкам – я живу. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. А значит потомки мои, живы, и жить будут вечно. Ничего, у меня тоже полно приятных воспоминаний о них, только я их напишу это позже. В начале 1968 Романа парализовало, я (Иван Лаврентьевич) ни разу у него не был во время его болезни, всё думал, что успею…, а он ждал меня. В день похорон мы с сестрой Лидой отправились к ним, но дороги были занесены снегом, и на похороны я не попал. Случается же такая неблагодарность в жизни.
Домна Тимофеевна ещё немного прожила. К ней переехала жить дочь Тавифа с мужем, детей у них не было и они взяли на воспитание девочку, которую и вырастили. Домну Тимофеевну парализовало лет через семь после мужа, но речь её не была отнята, и вольных речей уже у неё не было. Умерла Домна Тимофеевна Власенко в конце лета, и закончилось их странствование.
Фото Федосея Савостьяновича
Федосей Савостьянович 1896 года рождения. Его отроческие и юношеские годы описаны у Романа. В начале гражданской войны 1914 года он приезжал к Тарасу в Юзовку (Донецк) в надежде устроиться в шахту. Но там ново поступающие проходили, медицинскую комиссию и по слабости зрения он комиссию не прошёл, однако на фронт его взяли.
Отправили его с фронтом на западную Двину в город Двинск, (теперь это Даугавпилс) – сильная крепость, которая была достроена и освящена в царствование Николая І в 1832 году. Вот сюда его и отправили. Немецкие заграждения были устроены из рядов крепко утверждённых деревянных столбов, по которым была густо протянута колючая проволока. Между этими рядами были земляные рвы. За этими заграждениями находились немецкие траншеи и блиндажи. Вдоль немецкого заграждения шло русское заграждение – это три столбика, связанные вверху и разведённые в низу так, чтобы они могли стоять. Вот такие связки столбиков были выставлены вдоль немецкого заграждения и по ним протянута колючая проволока. Далее этого русского заграждения – русские траншеи и блиндажи. В траншеи солдат посылали по очереди, после чего они шли на отдых в блиндажи.
Дальше, в обоих тылах стояла артиллерия. У русских была и морская и дальнобойная артиллерии. Дальнобойная, по-видимому, стояла в крепости. Потому, когда немцы начинали донимать русских, командир просил помощи у дальнобойщиков. Обычно один залп крепостных орудий усмирял немецких пушкарей. О наступлениях ни каких разговоров не было, нужно было стоять.
И стояли до 1917 года, пока после революции с фронта стали уходить все, кто желал. «Взял я свой вещмешок – говорит Федос – а сержант спрашивает: «Власенков, ты уходишь?», я говорю: «Да», а он: «Ну и иди». И пришёл Федос домой 16 декабря 1917 года.
Прожив год в Белой Дуброве, решил ехать к брату на Святогоровский рудник. Пока рудник принадлежал угледобывающей компании, им руководил Яков Давидович Подольский, но в 1920-м году он сдал рудник государству и управление рудником принял его брат Соломон Давидович Подольский, который в то, и кажется последующее время, не был женат. Обязанности фельдшера на руднике исполняла его сестра Елена Давидовна, которая была незамужней.
Поработав до 1920 года на руднике, Федос к Пасхе возвратился в Белую Дуброву. К концу года он женился, а как жена была из Николаевки Гомельской области, он туда и переехал. Жили они там до 1929 года, пока вести о вольной жизни на Урале не соблазнили его искать там счастья. Распродался он и переехал на вольные земли. Давали ему надел земли, но без жилья, а он купил жильё с землёй.
А тут вздумалось правительству облегчить труд крестьян – объединить их в колхозы, куда нужно сдать и землю, и скот, и все орудия для обработки земли. Не востерпев сего условия, он и там всё распродал и вернулся в отцовский дом, где жила мать и слепые сёстры Елисавета и Елена.
Пережили зиму, и к лету купил он избу в селе, где прожил до 1937 года. Когда его спрашивали о том куда он ездил, он отвечал: «Да на Врал» (значит на Урал), а этот самый Урал он называл двойным именем – Врал-Враньё.
В 1937 году он приехал к Лаврентию. Святогоровские рудники уже были закрыты, а построена шахта 17/18, большая, туда он и поступил работать. Тяжёлая работа дала о себе знать. Он подорвался, заработал грыжу, которую нужно было удалять. Пошёл в больницу, где его приняла Васа Дмитриевна Сангурская и дала предписание – перевести на лёгкий труд. Поставили его на откатку на поверхности, где за смену нужно было пятьсот шахтных вагонов отогнать по эстакаде. Во! Лёгкий труд! Тяжелей чем в шахте!
Присмотрел хатку на Лобанщине – на восток от шахты. Гришинский район Анновский сельсовет деревня Парасковеевка (Лобанщина); Хотел, и кажется, купил, но осенью переехал к своему брату Тарасу на шахту 5/6 в город Димитров Донецкой области. Угольные пласты на реке Журавке в окрестностях казённого села Гродовка были открыты горным инженером из Екатеринослава Иваном Бригонцовым в 1795 году.
Шахта «Димитрова» (Гродовский рудник (1915—1930), рудник «Новый Донбасс», шахта №5—6) – угледобывающее предприятие в городе Димитров (Донецкая область, Украина), одно из старейших действующих предприятий угольной промышленности Донбасса №5—6 название в честь стволов 5—6. В 1934 году шахте №5—6 было присвоено имя Георгия Димитрова, болгарского политического деятеля.
Тарас жил в шахтной квартире, но строился, а Федос рассчитывал остаться в Тарасовой квартире. Но когда Тарас вышел из квартиры, заведующий квартирами отдал её Герасиму Савостьяновичу Власенко – брату Федоса и Тараса. Вознегодовал Федос, решил и шахту бросить. Попросил брата Романа хату купить в селе, каком-нибудь. Сёл вокруг много и во всех хаты продаются, но ни в одном селе не было леса, не было речки Бесяди, а это никак Федосу по нраву не подходило. Хотелось видеть пейзажи похожие на родину. Точно как и было с Савостьяном, родину не заменить ничем. Савостьян искал пути ухода на родину, Федосей так же.
Фото хутора Завитний
В 1966 году предложил мне (Иван Лаврентьевич вспоминает) дядя Роман съездить к Федосу, я тогда не работал и охотно составил ему компанию. Станция Желанная. На юг от станции до села идти около трёх километров. Село лежит в глубокой долине, здесь же находится интернат (колония) для слаборазвитых детей, где их учат грамоте и дают специальность. На запад, в самом конце села Новожеланное, расположен хутор Завитний.
От хутора на юг через балку большой колхозный сад (был), к западу, хутор немного возвышается. С северо-запада, за хуторскими огородами, проходит ложбинка – там всегда сыро, роднички питают крошечный ручеёк. Внизу в долине на восток до детской колонии – ставки все в зелени. В 1942 – 1943 Федос построил хату, которая стоит до сего (2005) года. Около хаты чахлый клён, за хатой – большой орех, на огороде – яблоня. Вот сюда мы и пришли тогда с дядей Романом. Ну и пошли разговоры о Белой Дуброве. Я сидел на краю кровати, Роман – посередине, с другого краю – Федос. Жили они тогда очень скоромно.
Семёновна, жена Федоса, думала свою думу. Гости приехали, встретить надо, а что подать? Я смотрел в пол, но видел братьев, каждого. Наконец Семёновна высказала вслух свою тяжёлую думу: «Чем же вас кормить?» Услышав такой раскат грома, братья вскинули взгляды друг на друга, а я усердно стал уточнять детали прерванного разговора о Белой Дуброве.
Обрадованные тем, что, якобы гром до моего слуха не дошёл, они в радости, наперебой продолжили своё повествование. Переночевали. По расписанию в десять утра идёт электричка. Вышли мы с дядей Романом на то место, откуда видна вся долина, остановился он, оглянулся и говорит: «Вот и прожил всю жизнь на коновязи». Я говорю: «Почему на коновязи? И ставок и сад».
И он мне рассказал, что с Федосом обошёл все сёла, а когда пришли в это, нашли хату и решили взять её на двоих с другим верующим братом. Фамилия того брата Концевой и он тоже искал купить хату. А как ни у Федоса, ни у второго покупателя Концевого не было достаточно денег – то решили купить одну хату на двоих. Всё – договорились. Роман довольный тем, что помог брату, пошёл с ним из села. «Дошли мы вот до сего места, Федосей оглянулся, постоял немного и говорит: «Ах! Коновязь, ни леса, ни речки! Не буду я эту хату брать!» А Роман ему и говорит: «Не будешь!? Мы уже обошли все сёла! Дальше я с тобой ходить не буду! Не хочешь – ходи сам!» Вот так Федос и прожил на коновязи до конца жизни.
Коновязь – это такое бревно на двух столбах в виде буквы «П», которое выставляли, обычно, за селом, куда приезжие привязывали своих лошадей. Вот с этим Федосей сравнил своё место жительства. Детей у Федоса Савостьяновича Власенко и жены Семёновны было семеро:
Фото Елена Федосеевна
Власенко Елена Федосеевна, 1922 г. р., жила в Смоленской области, но после смерти матери, переехала жить к отцу в хутор Завитний. В конце 70-х годов я видел её. Мой папа в 2002 виделся с ней.
Власенко Павел Федосеевич, 1924 – фронтовик, был сильно израненный и в 1964 умер;
Власенко Пётр Федосеевич, Дата рождения: 1926. Умер в 90-х;
Власенко Алексей Федосеевич родился 1936. Быстро прошла жизнь, умер в 1948;
Власенко Лида Федосеевна родилась в 1928. А в 1929 умерла; Власенко Лида Федосеевна, родилась 1930. Лида была учителем русского языка, жили они в Новоазовске, детей у них не было. Когда её муж умер, она переехала жить к сестре Лене в хутор Завитний.
Власенко Василий Федосеевич родился 1933 в период голодовки. Но прожил мало, умер 1934. Он, как и его маленькая сестра, Лида прожили всего год. Но это было время голодовки.
На фото Виталий, Галина, Федосей, Елена, Надежда
Федосей Савостьянович уже болел, когда я решил показать своим детям дедушку, который уходит последним из Савостьяновичей. Собрались мы с утра пораньше, чтобы успеть вернуться в тот же день, и поехали. Приехали в хутор Завитний, внуки сфотографировались с дедушкой на память и в 1979 году он умер. На похоронах мы были с Анатолием Лаврентьевичем. Приехали братья и сёстры с Кураховской баптистской церкви, где он состоял членом церкви, совершили служение и отправили его тело на покой.
Федосей Савостьянович Власенко, последний из Савостьяновичей уходил на покой.
Фото Герасим Савостьянович
Герасим Савостьянович, 1901 года рождения. Женат был на Устинье15 Семеновне. В 1918 году был рабочим шахты Подольского, где и уверовал – такие данные сообщил мне дядя Федосей, его родной брат. Потом он снова был дома, и говорят, работал в сберкассе. По этому делу и попал под следствие. После чего следует такой рассказ дяди Герасима: «Я сидел в КПЗ16. И там сидели ещё два вора, которых поочерёдно вызывали на допрос. И как очередной раз тот, что младше по возрасту, вернулся с допроса, где ему железнодорожным ключом рёбра поломали, то старший вор приказал ему молчать, иначе он его убьёт. А так как дело нужно было закрывать, то когда старший вор попросился выйти по нужде, его выпустили, а когда он шёл, его и застрелили». А как следом, движимый любопытством, попросился выйти и Герасим – его тоже выпустили. Когда он увидел убитого и возвращался, его спросили, что он видел. Герасим сказал, что не видел ничего. Его предупредили, чтобы он не забыл, что ничего не видел. Из этого следовало, что дело с облигациями расследовалось».
Позже, по словам Леонтия Лаврентьевича, Герасим был председателем колхоза в Белой Дуброве, однако хлеб у них был до того удивительный, что было диво – как его едят. По словам его брата Федоса, Герасим выехал на шахту 5/6 имени Димитрова в Красноармейский район Донецкой области в 1937 году. Работал в шахте. Шахтёров на фронт не брали.
Фото семья Герасима 25.06.1950
Построил он себе хатку на краю посёлка, где и вырастил семью: Василия, Аркадия, Лёню и ещё у них была доченька, но умерла маленькой. Это фото сделанное 25 июня 1950 года, маленькая девочка сидит на руках у мамы Устиньи, но в скорости она умерла. Герасим вырастил хороших сыновей, один из них числится в списках Министерства обороны СССР как телефонист взвода управления второй пушечной батареи.
Фото Василий Герасимович
Власенко Василий Герасимович родился 1924 году в Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский район, село Белая Дубрава. В 1943 году ушёл на фронт. Звание сержант. О подвиге его указано что 23 января 1945 года в районе села Фельше-Бешнье в Венгрии как телефонист под обстрелом противника 4 раза исправлял телефонную связь, тем самым обеспечивал бесперебойное управление огнём батареи по вражеским целям. Награждён медалью «За отвагу».
Герасим Савостьянович Власенко был пресвитером местной баптистской церкви на посёлке шахты 5/6 Димитрова. В то время по церквям было разослано, так называемое «Положение», которое ограничивало богослужения всевозможными запретами. В разговоре со мной, однажды он сказал: «Это же положение? Так я его и положил под сукно» – это значит, им не руководствовался. Удивительным был все таки Герасим. Не пытайся жить чужой жизнью, не равняйся на других. Мир не хочет, чтобы ты был матерью Терезой, Мартином Лютером Кингом, или Биллом Гейтсом. Миру нужно, чтобы ты был собой.
Герасим Савостьянович был высокого роста, широкой кости. Приехал он однажды к нам, ещё мама, жена Лаврентия Савостьяновича была жива, а моей дочери Наде, шёл третий годик – вспоминает Иван Лаврентьевич, взял он её на руки, Надя была первым ребёнком, очень крепкая, а она положила ему ладошку к щеке. Деду это было так потешно, что он громко смеялся и говорил: «Во, ляпа!» – значит морда.
Фото Надежда Ивановна
А умер он от сердечной недостаточности, которая часто его донимала. Однажды он лежал в связи со слабостью сердца в больнице, врач зашёл в палату и стал говорить о бессилии Бога, который не может его вылечить (врач знал, что Герасим был пресвитером). Выслушал его Герасим и говорит: «Знайте, что без благословения с неба, мы будем иметь голодные зубы». Приняв это во внимание, на следующий день Герасиму приносят завтрак и там (показывает свой огромный кулак) вот такой шавырок17 мяса! А ему же нельзя было есть мяса. Поняв в чём дело, он пошёл к женщине врачу, которая его вела по курсу лечения, и попросил, чтобы его выписали, объясняя это тем, что он никуда не денется – придёт, если будет плохо.
30 мая 1975 года Герасима Савостьяновича похоронили.
Елена Савостьяновна Власенко родилась в 1906 году. И последнюю дочь Савостьяна Лаврентьевича постигла та же участь, что и первую – она рано ослепла. Две слепых при престарелой матери, в селе они жили, чем могли. Однажды мама мне (Иван Лаврентьевич) сказала, что адрес Могилёвской области ей хорошо известен, хотя, как я знаю, она там никогда не была. Я понял, что ей неоднократно приходилось пересылать туда деньги. В одно время Лаврентий взял к себе Елену, и она некоторое время жила у него, но ведь не одним хлебом живёт человек. В Белой Дуброве песни пели сезонные, какое время года, такую и песню поют.
Когда наступала самая трудная пора – жатва, пели: «Ай! Болит моя головочка! Хочу двòру!» – значит «домой» в Белоруссию. Вот эту песню она однажды и затянула. Голос у неё был внушительный! И как эта песня не умолкала, пришлось, по неотступности, отправлять её двòру. Не знаю, как она прожила до 1946 года, но Роман был вынужден перевезти мать на Украину, ну а с матерью приехала и Елена. Были они обе у нас во дворе, папы тогда ещё дома не было, Он сидел в тюрьме, посадили за христианскую веру. Сидит как то Лена, она слепая была и кофточку свою «смотрит» руками, а та уже от времени кое-где прохудилась. Кофточка белая, как снег (лён тонко пряденный) и по ней вышивка чёрным и красным крестиком, может это ей ещё мать вышивала ей приданное. Лена перебирает кофточку и уныло говорит: «Износилась – не спросилась…» Лида, сестра Ивана Лаврентьевича её спрашивает: «А сколько же ей лет?» «Да што там! Сорок». Время года тогда было, когда спели абрикосы. Лида принесла ей целую миску и говорит, что это абрикосы, вкусные. Она скушала и говорит: «Нет, сливы лучше!» Ну, мы слив Белодубровских не пробовали, а вот яблоки тётя Таня присылала, действительно лучше! Определили тётю Лену в город Борисов, в артель для слепых. Борисов – крупный промышленный город Минской области. В Борисове насчитывается 42 завода и фабрики, 16 совместных предприятий, 700 предприятий торговли и общественного питания всех форм собственности.
Её работой было следить за ткацким станком. На этом станке ткалось трикотажное полотно чулком в диаметре около тридцати сантиметров. Готовое полотно сходит вниз, а она сидит и обеими руками обхватывает ткань. Если где то пошёл пропуск – станок останавливает и потом, или сама или зрячий надсмотрщик, устраняет эту неполадку – вдевает нитку в крючок. Жила она в комнате с другими женщинами, тоже слепыми. Мы с папой зашли к ним как то. Там была молодая женщина, которая попросила подать ей её СИНЕЕ платье.
А я говорю тёте: «А как она знает, что оно синее?» Она ответила, что той женщине глаза во время войны выбило, цвета она помнила, а что платье синее – то ей сказали. На ощупь она знает, как оно сшито и запомнила, что оно синее – вспоминает Иван Лаврентьевич. Когда был у неё в гостях Анатолий Лаврентьевич, её двоюродный брат и вечером, окончив беседу, она сказала: «Ну, тушите свет, а я буду посуду мыть». Толик спросил, как же она на тёмную мыть будет. А она говорит: «А мне какая разница, я ведь всё равно ничего не вижу». Имела она сына Ваську, который живёт в городе Борисове со своей семьёй. Умерла Елена в 1977 году 1 мая. Ты можешь быть счастливым или несчастным. И то и другое требует одинаковых усилий.
7
Имя Улита означает Уля, Улечка, Юля маленькая
8
Домна – старинное женское имя означает госпожа.
9
Евангельские Христиане Баптисты
10
Не словарное слово, что-то жестокое.
11
Ударница пятилеток, в тракторной бригаде.
12
Тонкая шерстяная ткать.
13
Хаим означает жизнь.
14
Местный житель работающий на гитлеровцев
15
Исконно русское редкое имя – справедливая
16
Камера Предварительного Заключения
17
Огромный кусок