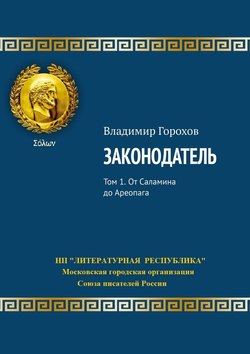Читать книгу Законодатель. Том 1. От Саламина до Ареопага - Владимир Горохов - Страница 3
Книга о мудрейшем из мудрецов и величайшем законодателе
ГЛАВА I. CАЛАМИН
~2~
ОглавлениеБыло хмурое, ветреное утро. День едва начинался. Многие афиняне, несмотря на плохую погоду и подавленное настроение, занимались обычными делами. Из ремесленных мастерских доносился стук молотков и скрежет металла. Гончарных дел мастера усердно размешивали глину. Кожевники возделывали овечьи шкуры, доставленные только что пастухами. Утренние Афины, проснувшись, уже вовсю дымились, давая всем знать, что несмотря ни на какие беды и трудности, жизнь теплится в каждом доме. Сильный ветер разносил дымные облака по всем сторонам, разрывал их в мелкие клочья, и порою, играя с ними, словно бы, кот с пойманной мышью.
Бесконечная вереница людей потянулась со всех улиц в сторону Агоры – центра деловой жизни Афин. Одни шли сюда, чтобы что-то купить, другие – продать, третьи – узнать о ценах, четвёртые – повидать знакомых или обменяться новостями. Иные – что-то украсть. А прочие – шли слоняться без надобности, безучастно наблюдать за происходящим вокруг, не сидеть же им дома. Жизнь на рыночной площади как обычно текла своим чередом. Жизнь безрадостная, мрачная, потускневшая от разного рода бед. Тучи висели прямо над Агорой, и, казалось, упирались своими краями в недалеко стоящий Акрополь.
Вдруг, невесть откуда, на Агоре, появился дивно одетый, высокий статный муж, лет сорока от роду. Красивые черты его лица были явно искажены, глаза горели. Вьющиеся русые волосы почему-то покрыты шапочкой, что являлось признаком умопомрачения, знаком душевной болезни. Быстро передвигаясь своими длинными ногами, пришелец направился к камню, с которого обычно вещали глашатаи. Несуразно махнув руками, он в мгновение ока взмыл на него и во весь голос страстно запел:
Все горожане, сюда! Я торговый гость саламинский,
Но не товары привёз, – нет, я привёз вам стихи.
Площадь на мгновение притихла, осмотрелась вокруг, задумалась, а затем многие на ней пребывавшие, короткими перебежками ринулись поближе к новоявленному поэту.
Казалось, он намеренно сделал паузу, чтобы находящиеся здесь люди подошли поближе и успокоились, сосредоточились. Краем глаза узрев, что прочно завладел всеобщим вниманием, внезапно появившийся поэт ещё громче продолжил:
Быть бы мне лучше, ей-ей, фолегандрием иль сикинитом,
Чем гражданином Афин, родину б мне поменять!
Скоро, гляди, про меня и молва разнесётся дурная:
«Этот из тех, кто из рук выпустили Саламин!»
– Верно, Солон, верно! – страстно воскликнул белокурый юноша, наблюдавший за поющим поэтом невдалеке от камня. Его поддержали ещё с десяток голосов.
– Так это Солон, сын Эксекестида? – изумился стоявший в двадцати шагах от вещавшего поэта седовласый толстяк по имени Гермий, судя по виду, человек благородного происхождения.
– Похоже, он, – подтвердил находившийся рядом его брат Аристей, такой же седовласый, такой же толстый и столь же «благородный». Затем тихо добавил: – Ходят странные слухи, будто Солон помешался умом. Дожил до акмэ – и внезапно обезумел.
– Слухам можно поверить, если судить по его безобразному виду и стихам, – саркастически бросил Гермий, – к тому же, слышишь, поёт без лиры. Не иначе как богиня глупцов Атэ вселилась в него.
– Но ведь ещё совсем недавно он был в полном здравии, как телесно, так умственно, да и, насколько мне известно, успешно вёл торговые дела. Все знают – Солон отменный купец. Не было случая, чтобы он оставался внакладе.
– Как-то не вяжется торговля с поэзией, – выслушав брата, возмутился Гермий, – что-то я не слыхивал, чтобы состоятельные купцы сочиняли стихи, а достойные поэты занимались торговлей.
– А мне кажется наоборот, – возразил Аристей. – Очень даже вяжется. Кто-кто, а уж эти торговцы мастаки увещевать языком. Так они захвалят свой товар, так его приукрасят, расскажут о нём столько небылиц. Чем это не поэзия? Сам Гесиод, а то и Гомер позавидовал бы им. Что же касается нынешних «гомеров и гесиодов», то, обеднев, некоторые из них, стали зарабатывать себе на жизнь торговлей. Ведь за стихи не платят. Но в совершенстве владея словом, можно успешно продавать товар, получать немалую прибыль. Так что, ошибаешься, брат; теперь – купец и поэт почти одно и то же. Сам видишь и слышишь.
Гермий поднял глаза к небу, словно собирался спросить у небожителей, прав ли его сородич, затем метнул взгляд в сторону вещавшего купца-поэта, потом любопытствующе осмотрел затаившуюся толпу, и, слегка покачивая головой, грустно промолвил:
– Поразительное время наступило сегодня. Всё в жизни смешалось – благородность происхождения с низменным занятием, поэзия с торговлей, разум с безрассудством. Что происходит? Куда идём?
Между тем «сумасшедший» Солон громогласно вещал последние строки своей элегии:
На Саламин! Как один человек, за остров желанный
Все ополчимся! С Афин смоем проклятый позор!
Окончив песнь, он быстро спрыгнул с камня и также незаметно исчез, как и появился.
Молодые афиняне устремились было за ним, но поэт словно растворился в воздухе. Кто-то всего лишь успел крикнуть:
– Приходи завтра!
Многие из присутствующих на площади находились в состоянии удивления, иные – смущения, а то и замешательства. Чего-чего, но подобного они не ожидали, тем более от Солона, человека мудрого, сдержанного, в Афинах уважаемого, происходившего из знаменитейшего древнего рода.
Когда оцепенение прошло, монолитная толпа расплылась на множество небольших островков, которые загалдели с такой силой, словно это был не афинский рынок, а птичий базар. Обсуждавших волновало три вопроса. Действительно ли безумен Солон? Если он не безумен, то какова судьба уготована ему богами после случившегося? И, наконец, третий вопрос, который пока не обсуждался, но, несомненно, каждый думал о нем – как быть с Саламином? До каких пор афиняне будут терпеть панэллинский позор? Этот вопрос был важнее других, но о нём не говорили. Во всяком случае, многие, опасаясь за свою жизнь, пока помалкивали, стараясь тему Саламина не затрагивать.
В течение часа-другого весть о солоновом деянии разнеслась по всему городу. Пожилые мужи сдержанно, но осуждающе говорили меж собою о происшедшем. Многие из них побаивались, как бы их сыновья и внуки не поддержали рехнувшегося поэта. Случись подобное, не миновать новых сражений с мегарянами, не уйти от больших жертв, а то и унижений, если снова постигнет неудача. Впрочем, не все беспокоились, полагая, что Солон действительно тронулся умом. Не может ведь здравый человек быть врагом себе, поступая таким образом. Иные уверовали в мономанию Солона, дескать, он помешался на своей идее освобождения Саламина. И теперь будет всех в этом страстно убеждать каждый день. Кое-кто посчитал, что Солон заболел эпилепсией. Хотя никакой эпилепсии у поэта и торговца не наблюдалось.
Афиняне среднего возраста, к которым относился и сам Солон, хорошо знавшие его, были убеждены в наигранном притворстве купца-поэта. Скорее всего, за этим кроется что-то таинственное, предполагали они. Но вот чей замысел осуществляет он, понять пока не могли. Что-то здесь не так, полагали они и молча строили догадки.
Относительно афинской молодежи можно утверждать – те торжествовали. Наконец-то, – радовались они, – нашёлся смельчак, который открыто сказал всё то, о чём они тайком помышляли. Многие молодые люди давно желали проявить себя на саламинском поле боя. И вот, кажется, такая надежда появилась, если, конечно, архонты не расправятся с Солоном.
Следующий день выдался ещё более хмурым. Чёрные тучи заволокли всё небо над Афинами. Моросил мелкий дождь. Казалось, сама природа отражала плохое настроение людей, состояние их духа и вынуждала всех сидеть дома. Но не тут-то было. Сразу же после завтрака со всех афинских улиц к центру города потянулась череда мужей. Приветствуя друг друга, они убеждали встречных, будто идут на Агору по неотложным делам. Кому-то вдруг понадобилось купить оливкового масла, зайти в лавку за овощами, кто-то надеялся приобрести новую посуду, иной – встретить знакомого из соседнего полиса. Короче, у всех нашлась уважительная причина, чтобы именно сегодня побывать на городской площади.
И действительно такая причина существовала, и называлась она – Солон. Некоторые и вовсе не скрывали её. Правда, никто не был уверен в предполагаемом появлении дерзкого поэта на Агоре. Несмотря на то, все надеялись и ждали. Большинство пришедших парами кружили вокруг камня, ведя незатейливые беседы, и украдкой поглядывали туда, откуда, предположительно, мог появиться ожидаемый поэт. Присутствующие заметили, как к камню подошли четверо мужей и стали о чём-то меж собою тихонько говорить. Среди них находился Дропид – родственник Солона и трое ближайших друзей поэта – Гиппоник, Клиний и Конон. Афиняне решили, коль пришли друзья, то вскоре появится и сам виновник сборища. Предчувствия не обманули их.
Солон буквально ворвался на Агору. Облачённый в короткую хламиду, с шапочкой на голове, ютившейся набекрень, возбужденно расталкивая руками теснившихся вокруг афинян, он решительно направился к камню. Те, кто стояли на пути, еле успели расступиться, давая поэту пройти. Не задерживаясь ни на одно мгновение, Солон стремительно взмыл на камень, окинул окружавших его людей притворно безрассудным взглядом и громко запел:
С вестью я прибыл сюда от желанного всем Саламина,
Стройную песню сложив, здесь, вместо речи, спою.
Все обитатели площади замерли, внимательно вслушиваясь в Солоновы слова. Даже безразличные лавочники-чужестранцы бросили свои товары и, осторожно переступая с ноги на ногу, подошли поближе к сборищу, пытаясь понять смысл происходящего.
Песнь Солона звучала трогательно, страстно, язвительно. Казалось, он стремился устыдить афинян в бездействии, упрекал их в отсутствии патриотизма, чувства собственного достоинства и боевого духа. Особенно дерзкими были его последние слова:
На Саламин! Как один человек, за остров желанный
Все ополчимся! С Афин смоем проклятый позор!
Стоило поющему поэту закончить элегию, как часть толпы, где преимущественно стояла молодёжь, взорвалась:
– На Саламин!!! На Саламин!!! На Саламин!!! Смоем позор!!! Смоем позор!!! Смоем п-о-з-о-о-о-о-р!!!
Те, которые были постарше, начали осмотрительно удаляться с места события, опасаясь возможных неприятностей. Многим стало ясно, что никакой он не полоумный этот Солон, ибо такую песнь, мог сочинить человек поистине талантливый и здравый. Впрочем, все эти поэты не от мира сего. Поговаривают, вроде бы они являются посредниками между божествами и людьми. Во всяком случае, Гомер и Гесиод наверняка общались с богами. Иначе откуда им довелось узнать всю родословную олимпийцев. А что если и Солон является провозвестником высшей воли? Вдруг он послан воинственным Аресом или многомудрою Афиной, а то и самим громовержцем Зевсом, чтобы воспеть мужество, силу, честь и разбудить боевой дух мужей. Так, примерно, размышляли некоторые афиняне, возвращаясь с Агоры.
Тем временем Солон, в отличие от дня вчерашнего, домой не спешил, а продолжал стоять на облюбованной им трибуне, молча вслушиваясь в крики молодых афинян. Он застыл, будто каталепсия сковала его. Дождь никак не прекращался. Распахнутое небо щедро поливало всех водой. Поэт весь промок. С его головы, с рук, с ног струились ручейки воды. Создавалось впечатление, словно он весь плачет, будто не только душа, но и всё его тело и одежда источают крупные слёзы. Сильный ветер бил поэта в грудь и в лицо, пытаясь согнать его с бемы. Но не для того пришёл сюда Солон, чтобы падать с камня от дуновения ветра. Когда гомон вокруг поутих, стихотворец ожил. Он медленно поднял правую руку, а затем резко, вместе с брызгами, выбросил её в сторону, стоявших в десяти шагах от него, молодых людей.
– Трусы! – язвительно крикнул он им. – И ты, Феодор, и ты, Мардоний, и ты, Антихар! Все трусы!!! И вы тоже! – на сей раз, Солон сделал выпад левой рукой в другую сторону. – И вы тоже! – вовсю вопил он, указывая обеими руками на стоявших рядом с ним друзей. – Все трусы и предатели! В Афинах не осталось достойных мужей! Арес и Афина покинули вас. Видно, вами верховодит одна Афродита. Несчастные! Уходите домой, держитесь своих жён. Спешите к уличным девкам, может они скрасят вашу безучастную жизнь. Идите и услаждайтесь горечью моих слов. Всем позор! Всем позор! – И с этими словами сошёл с камня и подался в сторону своего дома.
– Ты заблуждаешься, безумец! – возразил ему вослед Мардоний, которого Солон обозвал трусом. – Да я немедля готов взять копьё и прямиком двинуться на Саламин!
– И я! – произнес Антихар.
– И я! И я! И я! – также воскликнули многие молодые люди…
По дороге Солона нагнали его друзья-соучастники.
– Ну, как, удалось? – озорно подмигнув им, весело спросил поэт.
– В тебе, мой дорогой друг, – сказал Клиний, – пропадает лучший сатир Эллады! Ты способен переиграть всех.
– А я и впрямь подумал, что у тебя притупился разум, – включился в разговор Конон. – Особенно когда ты стал обзывать молодых трусами.
– Удивляюсь, – рассмеялся Гиппоник, – как это мужи не побили тебя камнями?
– Афины умалишённых любят, – прижмурившись, с наслаждением произнёс Солон. – Они боятся сильных, честных, справедливых, смелых и мудрых, а дурачков любят. Если умный муж говорит им правду, его сразу же начинают обвинять либо в подрыве устоев, либо в государственной измене. А с юродивого спрос невелик. Такого не только выслушают, но и накормят, оденут, положат на ночлег, обласкают. Того и смотри, скоро меня начнут жалеть, а то и кормить, – улыбнувшись, добавил он. – Как замечательно быть афинским сумасшедшим!
Друзья Солона громко расхохотались. На прощанье договорились – завтра они вновь соберутся на Агоре. Солонова затея им так понравилась, и судя по их разгорячённым лицам, всеми овладел большущий азарт.
И в этот вечер главной темой разговора во всех афинских домах являлся Солон, точнее состояние его ума. Как зараза распространилась по Аттике молва о сумасшествии сына Эксекестида. Некоторые сердобольные горожане искренне сожалели о постигшей, как они предполагали, его беде. Как же так случилось, что он впал в безумие? Они охали, ахали, взывали Афину вразумить, а Асклепия – излечить заболевшего купца. Их сочувствие выглядело искренним, добросердечным, ведь Солон, как и его покойный отец, всегда слыли людьми, достойными, уважаемыми, добродетельными. Среди афинян, у них, пожалуй, не было не только врагов, но и явных недоброжелателей. Завистники, как всегда водится, имелись, но не более того. Особенно печалились старики – сверстники солонового родителя. Они побаивались, как бы непонятная болезнь не привела к несчастью.
– Да и болен ли он на самом деле? – задавались многие подобным вопросом. – Нет ли в этом обмана или злого умысла? Всякое ведь может быть.
Те граждане, которые ещё не слышали призывов поэта, возгораясь любопытством, решили самолично во всём убедиться. А потому, в следующий день, не мешкая, с утра, отправились в центр города.
Дождь над Афинами, кажется, прекратился, но небо всё ещё не просветлело. Хмурые тучи, словно волны, накатывали на город, усиливая и без того гулявшую в умах людей тревогу и нервозность душевного состояния. К полудню вся площадь была усеяна горожанами. Мужи всех возрастов и достоинств с нетерпением дожидались Солона. Среди них находились даже дети, хотя им не позволялось участвовать в собраниях. Собственно, никакого собрания и не было. Скорее всего, событие напоминало стихийное уличное театральное действие, в котором сатир Солон общался с хором, то есть с афинянами. A уличные театральные действия в Афинах, как и во всей Элладе, стали уделом не только взрослых мужей, но и детей, женщин, людей, не имеющих гражданства. Между тем на Агоре сомневались, что новоявленный сатир – Солон положительно воздействует на молодёжь. Впрочем, никто никого не прогонял и не зазывал остаться. Все томились ожиданием. У входа мелькнуло лицо бывшего стратега Главкона, здесь же стоял полемарх Диодор, и даже престарелый Клеомен – бывший хитромудрый архонт, словно невзначай заблудившись, зашёл сюда. Видя огромное скопище возбуждённых людей, он съязвил:
– Экклесию и ту посещает меньше граждан. Надо бы намеренно просить Солона сумасбродить в день народных собраний. Тогда бы и глашатаи не понадобились.
Тем временем на площадь вошли сообщники поэта, что являлось верным признаком скорого прибытия и самого виновника невиданного сборища. На сей раз Гиппоник, Клиний, Конон и Дропид не остались вместе, а разбрелись по разным углам Агоры. Так, видимо, они уговорились заранее.
Наконец-то появился и сам ожидаемый. При его виде площадь, напоминавшая пчелиный рой, притихла. Стоявшие на пути поэта мужи – кто вежливо, кто сочувственно, а кто и небрежно – расступились, пропуская его к камню, к которому он упрямо спешил. Легко взобравшись на него, как и в предыдущие дни, Солон поправил на голове шапочку, окинул присутствовавших наигранно сумасбродным взглядом, повернулся на Юг – в сторону злополучного острова, плавно вытянул обе руки и сильным, красивым голосом запел:
О, Саламин, сколько ты унижений доставил Афинам,
Остров желанный, в наш дом, открывающий путь…
Афиняне внимали поэту. Даже те, кто вовсе не любили и не понимали поэзии, и то пытались вникнуть в смысл солоновых элегий. Бывший стратег Главкон, почёсывая обрубком своей руки за левым ухом, тихо произнёс:
– Да-а-а! Ну и ну!
Что он этим хотел сказать, никто толком не понял. «Да», в смысле правоты Солона. Или «да» – как раз в противоположном значении.
Полемарх Диодор, слушал Солона, опустив взгляд, словно бы устыдился его упрёков. Рядом с ним стоял десятилетний мальчишка по имени Феспид. Широко открыв рот, восхищённо глядя на поэта, он затаённо вникал в солоновы слова, буквально поглощая их. Не они ли, через много лет, побудят создателя трагедии к своим изысканиям?
Бывший архонт Клеомен не только слушал, но и внимательно следил за действиями поэта, пытаясь проникнуть в его душу, и уяснить – действительно ли она больна. Не раз он окидывал хитроумным взглядом и всех присутствующих на площади, изучая их отклики на призывы Солона. В конечном счёте, Клеомен понял – афиняне на стороне безумца. Касательно душевной болезни самого выступавшего, бывшего архонта взяли серьёзные сомнения. Лицо, глаза, руки и одежда действительно несли оттенок умопомешательства. Но голос и содержание элегий как раз свидетельствовали о ясности ума. Двойственное, весьма двойственное впечатление от услышанного и увиденного на Агоре осталось у рассудительного Клеомена. Стоявший рядом с ним пожилой афинянин, нерешительно шепнул ему:
– Вот так штука! Сдаётся мне у Солона умно безумный образ мыслей.
– Вернее безумно умный, – хихикнув, ответил Клеомен и, прихрамывая, подался прочь. При этом он убеждал самого себя: «Скорее мы скудоумны, нежели „умник“» Солон.
– А мне кажется у него криптомнезия, – крикнул вослед уходящему Клеомену лекарь Мирон. – Уж больно у него всё путается – и реальное, и вымышленное, и увиденное во сне, прошлое и настоящее. Не иначе как криптомнезия. Я вполне это допускаю.
Про себя же Мирон подумал: «А может Солон олигофрен, психически недоразвитый. В среде эвпатридов, тем более царственной, такие индивиды встречаются часто. Я уж это точно знаю». Он ещё долго размышлял над увиденным и услышанным здесь, но окончательно не определился. Видимо, требовался глубокий диагноз, предполагающий всестороннее исследование больного, то есть Солона. Мирон продолжал наблюдать и присматриваться, надеясь установить достоверный диагноз.
Зато многие посетители Агоры, не вдаваясь в тонкости происходящего, всё больше приободрялись, радуясь появившейся возможности отменить позорный закон и повоевать.
Вновь, как и вчера, молодёжь азартно выкрикивала:
– На Саламин! На Саламин! Смоем позор! Смоем позор!!!
Когда поэт удалился с площади, афиняне ещё долго оставались на месте. Развернулась небывалая полемика как вокруг безрассудства Солона, так и по поводу Саламина. С Агоры она переместились на улицы, затем во дворы и дома. Афины постепенно стали напоминать просыпающийся вулкан. Правда, находились и такие, которые утверждали, что им нет дела до измышлений Солона. Как-никак больной человек. А с больных, да ещё умом, никакого спроса нет.
С каждым выступлением Солона мнение горожан всё больше и больше склонялось к отмене закона о Саламине, называемого ещё «Законом Аристодора», и необходимости новой экспедиции туда. Всё чаще звучали голоса, требующие немедленного созыва Экклесии, посвящённой этому вопросу. Недовольство росло; росло не по дням, а по часам. Обо всём этом Солон достоверно знал. Каждый вечер друзья сообщали ему об услышанных ими новостях на Агоре и на афинских улицах. Подобное обстоятельство весьма радовало поэта, хотя и чувство большой тревоги также не покидало его. Он хорошо изучил афинский народ, который может тебя сегодня поддержать, а завтра – наказать. Но будь что будет! Решено довести до конца задуманное дело, хотя каким мог быть конец, никто толком не знал и вовсе не предполагал.
Ещё несколько дней «безумноречивый» поэт являлся площади и её обитателям и неистово призывал соотечественников к ратному делу. Он страстно воспевал утраченный Саламин. За истекшее время на Агоре побывали едва ли не все граждане Афинского государства. Даже из отдалённых селений Аттики, из так называемой аттической глуши, прибыли гонцы узнать о происходящем. А узнав, тут же возвращались назад с невиданной вестью. Афинская молодёжь буквально окрылилась Солоновыми стихами и целые дни проводила на площади. Да что там молодёжь. Люди среднего и старшего возрастов бросали свои обычные занятия и по многу раз ходили слушать одержимого Солона. А затем спорили, сомневались, вновь спорили, разводили руками, вздыхали и, что там говорить – побаивались.
Тем временем молва о безумноречивом поэте вышла за пределы Аттики. Она распространилась даже в Мегарах, где местные мужи, насмехаясь над происходящим в Афинах, задавались вопросами: «А чтобы сие на самом деле значило?», «Не деградируют ли окончательно Афины?» «Скорее всего, у Солона паранойя, раз он ежедневно бредит Саламином. А может он психопат?» Но и здесь имелись такие мужи, которые со скрытой тревогой восприняли афинскую новость. Видимо, сердце им подсказывало, что не к добру творится всё происходящее во вражеском стане. Не тот человек Солон, чтобы затевать такого рода чудачества и глупости. Что-то здесь не так. Но таковых в Мегарах было крайне мало.
В Афинах же нарушился привычный уклад жизни. По всему чувствовалось – страсти накаляются, неотвратимо назревают крупные события, а посему требовались какие-то решения. Но пока никаких решений не принималось. Архонты – высшие должностные лица – выжидали довольно долго, и только на двенадцатый день архонт-эпоним Аристодор, наконец-то пригласил восьмерых своих сотоварищей-архонтов, кратко изложив им суть дела. Он мог бы того и не делать, поскольку все хорошо знали о происходящем в их отечестве. Но так повелевал долг, которому Аристодор был верен. Свою краткую речь главный архонт завершил вопросом:
– Что будем делать, досточтимые мужи?
Высказывались разные суждения, но все единодушно пришли к выводу – пора действовать, пока обстановка окончательно не вышла из-под контроля. Одни – предлагали казнить Солона, другие – изгнать его из Афин, третьи – намекали на необходимость отмены позорного закона. Иные – вообще не знали, как поступить при подобных обстоятельствах. Не придя ни к какому определённому выводу, архонты постановили: созвать Экклесию и, в зависимости от настроения
большинства граждан, определиться с дальнейшими действиями. Тут же глашатаи по всему городу и окрестным селениям оповестили о предстоящем народном собрании граждан Афинского государства.
Готовясь к Экклесии, Аристодор размышлял над происходящим. На душе у архонта-эпонима было состояние полнейшей неопределённости. Оно и понятно. Архонство, принятое им в нелёгкий для Афин час, доставляло ему не столько радости и почёта, сколько хлопот, опасений и тревоги. Как высшее должностное лицо полиса, Аристодор обязан был строго блюсти существующие порядки. На первого архонта всегда ложится груз наибольшей ответственности. Любое нарушение может обернуться несчастьем как против государства, так и против него самого. Аристодор считал себя опорой существующих законов, тем более тех, создателем которых он сам являлся.
– Закон есть закон, его все обязаны чтить, – сурово провозглашал глава государства.
Как эвпатрид – представитель наивысшего сословия, Аристодор придерживался тех устоев, которые сформировались в Афинах давно и вполне устраивали представителей его общности. Эти устои, хотя и выглядевшие архаичными, суровыми, даже жестокими, он целиком поддерживал.
«А как же иначе, – размышлял аристократ, – ведь они защищают меня, имеют древние корни и пренебрегать ими, никому не позволено».
Как добропорядочный гражданин, Аристодор хорошо понимал настроение многих афинян и в глубине души сочувствовал им. Он также болезненно переживал утрату Саламина, тайно лелея надежду, что когда-нибудь этот злополучный остров удастся вернуть. Правда, по его неустойчивым убеждениям, вряд ли такое представлялось возможным в настоящее время.
– Беда с этим Саламином! – часто хмурясь, бормотал знатный афинянин.
Ко всему прочему Аристодор был также и обычным человеком, со всеми присущими последнему слабостями, чувствами, недостатками. Как и все горожане, он по несколько раз на день менял своё мнение в отношении происходящего. То осуждал Солона, ругая его, то соглашался с ним, то как бы не замечал поэта. Разумеется, всё это он соображал про себя. Ему тоже, как и простым людям, хотелось сходить на Агору и послушать нарушителя спокойствия. Однако внутренний цензор – архонт – не позволял Аристодору-человеку брать верх над собой. Перед сном размышлявший не раз порицал себя за нерешительность, потом хвалил за сдержанность, затем снова сомневался и в том, и в другом. В конце концов, отмахнувшись от всего, долго пытался уснуть. Но и во сне архонта не покидала тревога. То ему снились бунтующие афиняне, то грозящие оружием мегаряне, то сумасшедший купец.
– Ох уж этот Солон! – просыпаясь, отягчённо вздыхал он.
Мысли о сыне Эксекестида всё больше и больше тревожили его. Что-то не верилось Аристодору, чтобы столь знатный афинянин ни с того ни с сего сошёл с ума. Ну, а если Солон здоров, то зачем он ежедневно, уподобляясь сатиру, будоражит разум афинян, призывая их нарушить закон?
– Что всё-таки за этим кроется? – подозрительно спрашивал архонт себя. И ответа не находил. Желая прояснить хотя бы самую малую малость, Аристодор после длительных бесплодных размышлений вознамерился завтрашним вечером навестить нарушителя государственного спокойствия.
В то время, когда архонт собирался наведаться к Солону, последний вместе с Дропидом, Клинием, Кононом и Гиппоником размышляли над тем, как вести себя во время предстоящей Экклесии.
Клиний и Конон настаивали на продолжении «сумасшедшей» игры. Дропид и Гиппоник считали дальнейшие притворства неуместными.
– Теперь, – горячился Гиппоник, – афинянам пора открыть истинность наших намерений. Переигрывать никак нельзя, а то они и впрямь сочтут тебя за умалишённого и примут соответствующие решения, – сказал он своему другу.
– Не столь афиняне наивны, как может показаться со стороны, – предположил Дропид. – Всё они прекрасно понимают. И считают Солона помешанным в переносном смысле. Кто ж из здравомыслящих индивидов станет откровенно набрасывать себе верёвку на шею, провозглашая подобные призывы? Но я уверен – большинство поддержит Солона.
– А что сам, думаешь, на сей счёт, друг любезный? – обратился к Солону Клиний.
– Не знаю, не знаю. Нет уверенности ни в чём, – с грустью рассуждал тот. – Афинский народ как прибрежный ветер. То пошумит, то утихнет, то неожиданно направится в противоположную сторону от требуемой тебе. Буря, которую я поднял, может сдвинуть с места афинский корабль, но может и обойти его стороной. На нашем афинском судне, как вы знаете, нет дружного экипажа. Многое будет зависеть от кормчих.
– Ты хочешь сказать от архонтов? – переспросил Дропид.
– От архонта, – уточнил Солон. – От архонта-эпонима Аристодора.
– Однако, – продолжал горячиться Дропид, – мы не можем давать такое важное дело на откуп одному человеку, полагаясь только на его милость…
Но договорить он не успел. Внезапно открылась дверь, и послышался громкий голос раба:
– Хозяин! Тебя хочет видеть архонт-эпоним Аристодор, сын Феагена.
На мгновение все замолкли, удивились. Даже хладнокровный Солон и тот растерялся от появления неожиданного гостя, его сердце слегка заколотилось, а щёки покрылись румянцем. Но, тут же, опомнившись, он быстро надел на голову шапочку, набросил на плечи попавшуюся под руки мешковину и стал в неё лихорадочно укутываться. Изобразив на лице маску безумия, выглянув в дверь, он притворно идиотским голосом пропищал:
– Здравствуй! Ты к кому, архонт, к моей жене или к отцу? Если к жене, то она в гинекее – на другой половине дома!
Вместо приветствия Аристодор спокойным, но твёрдым голосом произнёс:
– Не шути, Солон. Мне не только твоя, но и своя жена мало на что сгодится. У меня почтенный возраст.
– А, так ты к моему отцу! Но его дома нет. Он… он… он давно умер, – жалобно объяснил хозяин, продолжая лихорадочно укутываться в мешковину, и нарочито вращая выпученными невинными глазами осматривать гостя.
– Не гневи богов, сын Эксекестида, не оскверняй память родителя. Покойный относился к числу достойнейших афинян. Да и весь ваш славный род один из знаменитейших в Элладе. А ты вот… мнимо сходишь с ума! Не даёшь мне и другим архонтам завершить начатое дело.
При этих словах государственный муж сделал паузу, а потом, с любопытством оглядев Солона, любезно осведомился:
– Но позволишь ли ты мне войти?
Тот хотел, было сказать «Зачем?», но почему-то ответил:
– Ну-ну, раз пришёл, входи.
Архонт вошёл в комнату. Увидев растерянных собеседников, окинул всех намеренно суровым взглядом, а затем ехидно спросил:
– А что же вы не укутываетесь в мешковину и не надеваете шапочки? Или их у Солона на всех не хватает? Если так, то я немедля прикажу рабам принести и для вас. Вы не представляете, как мне хочется побыть в большой компании мужей, рехнувшихся умом!
Друзья в нерешительности молчали. Пользуясь выгодной для себя ситуацией, архонт промолвил:
– Я бы хотел наедине поговорить с хозяином. Не возражаете? Или возражаете? А то от слабоумных можно получить любой ответ!
Находившийся «не в своём уме» хозяин продолжал гримасничать, кивнул друзьям, и те исчезли. Вдогонку им Солон крикнул:
– Приходите как-нибудь на неделе, будем пить козье молоко!
– Стало быть, сказано, – откликнулись хором удаляющиеся друзья.
После ухода Конона, Клиния, Гиппоника и Дропида, оскалив зубы, купец обратился к архонту:
– Будешь стоять, сидеть или приляжешь, уважаемый Аристодор?
– Сяду на крышу, – съязвил тот и тут же, весьма приязненно, добавил, – перестань паясничать, Солон. В своём мнимом безрассудстве ты переходишь все допустимые пределы. Не пристало тебе такое. Ты же сам поучал: «ничего слишком» Давай лучше благоразумно поговорим начистоту.
После этих слов архонта «сумасшедший» поэт выздоровел. Он снял с головы шапочку, отбросил в сторону мешковину, обрёл свой естественный облик и пригласил гостя сесть. Сам же, предвидя затруднительный разговор, обосновался напротив.
– Итак, я слушаю тебя, архонт, – сказал он ровным спокойным голосом.
– Это я должен выслушать твои объяснения, – порицающе возразил собеседник, усаживаясь на скамье, – поэтому, собственно, и пришёл. Ты, Солон, поднял в Афинах смуту. Своими песнями о Саламине накликаешь бедствие, раздуваешь пламя беззакония и произвола. Но ведь хорошо известно, что на сей счет, гласит закон: «Всякий, кто призывает к походу на Саламин, подлежит изгнанию или смерти». Неужели тебе надоело жить? Или полагаешься на мнимое сумасшествие? Нет, дорогой поэт, ни меня, ни других архонтов, ни Ареопаг так просто не проведёшь. Да и остальные афиняне не очень-то верят в разыгрываемое помешательство. Ты выбрал сомнительный, не плодотворный путь, любезный. Тебе, придётся держать ответ перед Экклесией. Будь готов к этому, страшись!
– Я готов ко всему, даже к самому худшему! – глядя архонту в глаза, пылко ответил Солон. – И не страшусь никого! Я склонен держать ответ перед афинским демосом. Но, умалишённым, Аристодор, мне пришлось прикинуться потому, что умных граждан либо не хотят, либо боятся в Афинах слушать. Только слабоумный у нас имеет большую свободу. Все остальные молчат. Они чувствуют себя пренебрежёнными, скованными и обманутыми. Жизнь для многих людей стала невыносимой. Очень многие недовольны ситуацией, и выхода из этого пока не видно. Разве ты ослеплён, ничего не замечаешь, архонт? Неужели ничего не слышишь?
Гость задумчиво смотрел на собеседника, всем своим видом давая понять, что ничего не слышит и не замечает, хотя со зрением и слухом у него всё в порядке.
– Я боюсь, Аристодор, – продолжил далее Солон, – как бы смута, более глубокая, чем нынешняя, не охватила вскоре всю Аттику. Тогда для нас могут наступить чудовищные времена, не поможет и святость сомнительных законов. Касательно Саламина, то он как раз, поможет избежать худшего. На острове есть плодородная земля, а у нас полно безземельных. Афинам нужна саламинская пристань – она оживит торговлю. В случае длительной войны с варварами или недружественными эллинами, а такое также следует предусмотреть, Саламин можно сделать неприступным укрытием для афинян. И, самое главное – возврат исконно нашей территории поднял бы дух ионийцев, возвысил Афинское государство в глазах всех эллинов, возродил активную жизнь. Саламин отодвинул бы задворки нашего государства.
Архонт, удивлённый глубиной прозвучавших мыслей, продолжал безмолвствовать.
– Но ты, дорогой Аристодор, не знаешь ещё об одном, пожалуй, самом нелицеприятном. Мегаряне собираются сделать и уже делают Саламин неприступной крепостью. И если мы подобное допустим, то тогда не видать нам желанного острова, как своих ушей! Боюсь, что и на другие наши земли мегаряне позарятся. Они же знают, что мы сильно пали духом и не способны держать мечи. Небывалая беда грозит Афинам! И в ней будешь повинен ты. Что на это скажешь, охранитель законов?
Гость молчал, поджав губы и осмысливая услышанное здесь от Солона. Ранее, где-то в глубине души, он ещё таил надежду переубедить бунтаря. Но в итоге получилось так, что помешанный поэт переубеждал его – несгибаемого архонта, навязавшего Афинам закон о Саламине в своей правоте. Признать сейчас свою неправоту Аристодору не позволяли гордость и должность. Считать же неправым Солона ему не давали честь и совесть. Именно поэтому неподатливый архонт предпочёл не делать скоропалительных выводов. Он долго размышлял, затем вновь строгими глазами пристально посмотрел на Солона, но то уже был другой взгляд. Глаза те же, а взгляд иной – более дружелюбный и сочувственный. Можно сказать это был взор молчаливой негласной поддержки, во всяком случае, искреннего сомнения.
– Я пойду, – сказал Аристодор, почти, извинительным тоном. – У меня ещё много дел. Завтра Экклесия, ты знаешь. Надеюсь, боги помогут нам разобраться в трудных делах. Но многое, Солон, будет зависеть только от тебя, от твоего благомыслия и умения убеждать афинян. Завтра тебе предстоит переход от умоисступления к врачеванию. Тебе надлежит определить если не судьбу Афин, то свою собственную. Зевс и Афина тебе в помощь!