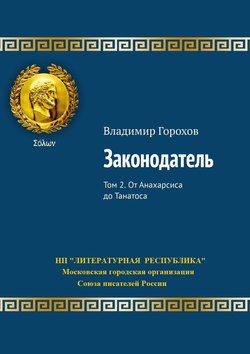Читать книгу Законодатель. Том 2. От Анахарсиса до Танатоса - Владимир Горохов - Страница 5
Книга о мудрейшем из мудрецов и величайшем законодателе
ГЛАВА V. ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ
~4~
ОглавлениеСев рядом с законодателем, скифский царевич попытался осмыслить всё увиденное здесь. Вначале ему казалось, что это не реальность, а дивный юношеский сон. От наваждений он хотел даже подёргать себя за ухо, как учила его в детстве мать. Но дёргай, не дёргай, а треножник здесь, рядом с тобой. Ты даже прикасался к нему. И не только треножник. И копья стратега, и его мечи, и кифара, подаренная жрецом древнейшего храма, и фараонов кинжал, и лира поэта, и многое другое находилось перед его восхищёнными глазами. Наконец, взяв себя в руки, встрепенувшись и сосредоточившись, после нелёгких раздумий он молвил.
– Странное сочетание. Даже дивное сочетание всего, что я увидел здесь. Никак не пойму, Солон, кто ты такой? Стратег, поэт, властитель, законодатель, купец, мудрец? Кто ты, Солон? Кто ты более всего? Кто ты на самом деле?
– Добавь ещё любовник, – усмехнулся афинянин, – а ещё корабельщик!
– Кем ты, себя, прежде всего, ощущаешь, досточтимый афинянин? – переспросил его скифский царевич.
– Всё относительно, даже условно, – ответил Солон. – Во мне люди видят того, кого они хотят видеть в данный час. Вот ты хочешь видеть во мне мудреца, ибо тебе нужен учитель мудрости и достойный собеседник. Мудрецом меня почитают также Фалес, Питтак, Периандр, Клеобул, Биант и другие мудрствующие люди. Дропид и Алкмеон видят во мне стратега, так как им хочется воевать. Такого же мнения обо мне был фараон и многие молодые афинские воины. Сапфо, Феспид и многие поэты видят во мне, конечно же, своего собрата, ибо мы родственные души на ниве замечательного слова. Египтяне, финикийцы, милетяне и эфесцы почитают меня за купца, достойного и надёжного партнёра по торговому делу. Мегаряне до сих пор думают, что я лучший кулачный боец, которого следует обходить стороной. К тому же, для них я самый коварный из полководцев, ибо я пленил их саламинское воинство. Египетские жрецы видят во мне своего собрата по божественному призванию и учёного, стремящегося постигнуть суть вещей. Участники Истмийских игр почитают меня за выдающегося атлета. Гетера из Навкратиса считала, что нет более любвеобильного мужа, нежели я. Поэтому Солон для неё – редкостный любовник. Моя жена Элия считает меня лучшим из супругов, хотя я себя таковым не считаю. Мой сын Микон почитает меня за лучшего из родителей. А внук Тимолай – считает меня лучшим дедом. Корабельщики во мне видят надёжного друга и партнёра. А пираты – злейшего врага. Афиняне уверены, что я законодатель, защитник порядка и справедливости. Они так и называют меня – законодатель! Многие эллины, смыслящие в государственных делах, полагают, что я политик, известный государственный муж. Вот видишь, сколь много всего во мне находят люди!
– Но сам-то ты, как склонен себя называть? – переспросил его Анахарсис.
– Я полагаю, – подумавши, ответил Солон, – что я есть всё вместе взятое, понемногу, в разумной мере. Во мне можно найти всё, что присуще непоседливому ищущему человеку.
– А как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли – законодатель, властитель, поэт, купец, мудрец?
– Я предпочитаю, чтобы меня называли добродетельным человеком. А уж как ко мне обращаются, не столь значимо. Пусть обращаются так, как им сподручнее, как велит их разум и требуют того обстоятельства. Важно лишь, чтобы меня уважали и считались со мной, с моим мнением и убеждением.
– Как я полагаю, Солон, ты можешь угодить всем и каждому?
– Всем никогда не угодишь, да и угождать не следует. Я вообще никому никогда не потакаю. Заискивая со всеми, можно вместо достойного человека стать низкопоклонником. Я всегда делал всего лишь то, что считал нужным и полезным для человеческого сообщества. Нужным и полезным в конкретное время, в конкретном месте.
– Разобрался ли ты в себе, Солон, или для себя ты сокрыт?
– От себя, Анахарсис, не скроешься. Скрыть свою подлинную сущность невозможно. Она проявляется в делах, поступках и поведении человека, в его мыслях. В словах тоже обнаруживается, но в меньшей степени. Ибо можно говорить одно, а делать совершенно иное. Но доподлинно разобраться в себе тоже дело не простое. Большинство людей стремятся познать других, но не себя. На себя обращают внимание уже в преклонном возрасте. А в твоём – все стремятся познать других, при этом не знают ни путей, ни средств познания, ни меры в этом вопросе. Скажу тебе так – в себе я ещё не разобрался основательно. А посему продолжаю себя познавать и, видимо до конца своих дней буду делать подобное. Самопознание – гораздо сложнее познания. Внешнее познаётся легче, нежели внутреннее. Так что если хочешь основательно познать мир – начинай с себя!
Солон и Анахарсис беседовали допоздна. По просьбе хозяина гость заночевал у него. На следующий день Солон решил устроить небольшое застолье. Так сказать, маленький пир, на который помимо Анахарсиса пригласил Главкона, Дропида, Писистрата, Аристодора и молодого поэта Феспида. Законодателю хотелось увидеть, как будет себя вести скифский царевич в более широком кругу людей, причём людей совершенно разного возраста, различных интересов и наклонностей. Правда, Дропид на приглашение не откликнулся, ссылаясь на недомогание.
Зато впервые на взрослое застолье пришёл молодой Писистрат, двоюродный брат законодателя по матери. По возрасту ему было не более пятнадцати лет, но выглядел он гораздо старше. Тот, кто не знал, сколько ему лет, мог подумать, что он достиг совершеннолетия. Высокий ростом, поджарый, очень красивый, он привлекал внимание многих афинян. Писистрат обладал острым умом, прекрасной памятью, умел с достоинством вести себя как в окружении юношей, так и среди взрослых. Он был большим хитрецом, всегда внимательно прислушивался к разговорам старших, буквально улавливал всё ценное и значимое, старался никому особо не перечить. Писистрат любил поэзию и превосходно знал её. Кроме Гомера, Гесиода и Солона ему были известны элегии многих современных поэтов. Но больше всего ему нравилось слушать умные беседы с участием афинского мудреца, из которых он многое черпал для себя. С помощью законодателя, юный арист стремился войти в элиту афинского общества и государства. И надо сказать, что со временем это ему удалось. Но сегодня он просто присутствовал в среде уважаемых людей, и весь вечер молчал; молчал и слушал, слушал и вникал в смысл происходящего. Что было вполне закономерно и главное правильно для такой ситуации.
В самом начале застолья Солон обратился к пришедшим мужам:
– Друзья мои! Мы собрались здесь, дабы по сложившемуся обычаю хорошо отдохнуть, спеть песни, поговорить о мудром, возвышенном и прекрасном. Чтобы мы делали в свободное время, если бы не наши друзья. От дружбы мы ожидаем мало, но в действительности получаем много. Хочу сообщить всем радостную новость. Круг моих настоящих друзей, а, следовательно, наших друзей, расширился. Его пополнил скифский царевич Анахарсис, прибывший к нам в Аттику в поисках знания и мудрости. Он желает их постичь до самых сокровенных изгибов. Как и мы, он не желает пустить свою жизнь по глухому пути. Царевич не просто скиф, а скиф с эллинской кровью и эллинской душой, а главное – с эллинским умом. Он – сын Гнура и афинянки Анфии, ставшей скифской царицей. Будем почитать его за нашего собрата и единомышленника. Прошу вас не отказывать ему в дружбе, уважении и всяческих просьбах.
Солон говорил ещё о многом. Все внимательно слушали его и с любопытством разглядывали Анахарсиса, вызвавшего у друзей законодателя неподдельный интерес.
Во время застолья беседовали о разном, как о текущем, так и о вечном, прекрасном. О вечном, разумеется, больше. Вначале говорили о делах государственных, потом перешли к темам хозяйственным, затем Феспид пел гомеровскую «Илиаду». Он с позволения хозяина снял со стены кифару, некогда подаренную Солону египетским жрецом Менхофрой, и, мастерски владея этим инструментом, божественно возглашал строку за строкой. Музыкально-поэтический гений Феспида произвёл на Анахарсиса такое сильное впечатление, что тот буквально растерялся, не зная, как быть, как реагировать на то, что он слышит и видит здесь. Затем Солон попросил Феспида спеть собственные песни, что тот с удовольствием и сделал.
– Понравилась ли тебе песнь Феспида? – торжественно спросил Анахарсиса Солон.
– Да, именно так! Я потрясён, – искренне признался скифский царевич. – Я даже и не помышлял, что такое вообще возможно. Феспид, видимо, сын Аполлона.
– Ну, о том, чей он в действительности сын, знает только его мать, – пошутил законодатель. – Но то, что Бог им доволен – можешь, Анахарсис, не сомневаться. А главное им восхищаемся мы. Думаю я, что на поэтическом поприще Феспида ждут великие дела.
Главкон и Феспид, немедля, приступили к расспросу гостя насчёт того, как обстоят дела с поэзией и музыкой у скифов. Дескать, какие поэмы пишут их выдающиеся аэды, на каких музыкальных инструментах играют скифы. Имеются ли у них школы, храмы, красивые дороги. Какие дома украшают улицы скифских городов.
Но если Главкон расспрашивал об этом в силу наивности и неосведомлённости, то Феспид знал точные ответы на многие поставленные вопросы. Однако ему хотелось не то чтобы уязвить скифского гостя, а просто услышать его объяснения. На самом деле это было интересно для всех собравшихся у законодателя. Ибо даже Солон не знал толком всех подробностей существования этого загадочного народа. Хотя о многом из их жизни он был наслышан от Саха и Иеракса.
Анахарсис. Видимо, догадался, что Феспид испытывает его на умственную прочность и осведомлённость о делах собственного народа. И он не оробел, не стушевался. Немного подумав, с чувством лёгкой обиды, а может быть, всего лишь досады, но с достоинством отвечал:
– Скифы – удивительный народ. У них даже государственность иного рода, нежели у эллинов. Они больше дети природы, чем государства. Скифы принадлежат к кочующим народам, или, как говорите вы – эллины, к номадам. Сегодня мы здесь, а завтра там. Мы дети случая. Да-да, если эллины дети номоса, то мы дети случая.
– Так вы скифы – номады, беспрестанно кочуете по степям? – искренне восхитился Главкон. – Как интересно. Всё время пребывать в пути. Постоянно менять места проживания. Свободные ото всего люди!
– У скифов нет полной свободы, как, впрочем, нет и неограниченного рабства, – уточнил Анахарсис. – Они не умеют играть на флейте, не умеют ни читать, ни писать. У нас нет музыкальных инструментов. Скифы не знают, как строить храмы и дома, не стремятся выращивать сады, сочинять элегии. У них нет школ, нет даже городов. И ещё чего многого нет из того, что есть у вас. Но у них имеются другие достоинства.
– Так-так. И какие же достоинства, позволь узнать? – с ухмылкой спросил изрядно подвыпивший вина Главкон.
– Ну вот, они, например, не пьют вино как эллины!
– Ты считаешь неприятие священного напитка достоинством?! – возмутился Главкон. – Это что за такой народ, который не пьёт вина?
– А разве вино является священным напитком? – удивился Анахарсис. – Впервые о таком слышу.
– Ну не всякое, – деликатно вмешался в разговор Солон, – если вино освящено в храме, то оно священно, если оно пьётся на празднествах, то тоже священно. А то, что пьём мы с Главконом сейчас, то это самый обычный виноградный напиток, наподобие воды. Воды у нас меньше, нежели вина, – пошутил хозяин застолья, – поэтому все эллины пьют много вина, как вы – скифы, пьёте много воды.
– То-то, – поддакивал Главкон, – пить вино не является у нас пороком и тем более развратом. Это – необходимость!
– Пить очень много, безмерно, – действительно порок, – снова заговорил Солон. – И пить каждодневно, упиваясь до безумия, – это тоже порок. А всё остальное у нас норма, или необходимость, как думает Главкон.
– Ладно, не перебивай, Солон. Дай мне возможность узнать о других достоинствах скифов, – разгорячился Главкон. – Так, каковы же они, Анахарсис? Скажи на радость эллинам.
– Скифы не стяжают богатств как эллины. Они довольствуются малым, никто никому не завидует, у них едва ли не всё является общим.
– Вот это интересно, – встрепенулся законодатель. – И в отношении стяжательства очень хорошо, и отсутствие зависти вызывает уважение.
– Ты, Солон, совсем плохой стал, – возмутился Главкон. – Они же все бедные, нищие, поэтому и не стяжают! Стяжать, как видишь, нечего. Гоняют себе по степям на лошадях, вот и всё. Нет у них ни двора, ни кола, ни дома. Одни кибитки. Не понятно, где они там занимаются важными делами?
– Сразу видно, – тут же возразил Анахарсис, – что глубокочтимый мною Главкон имеет превратное представление о доме. Дом, афинянин, вовсе не стены. Дом – это люди. То есть муж, жена, дети, родители, прислуга. Это отношения между ними. А где они живут лучше – между прочим, ещё вопрос. Можем поспорить на сей счёт. Вот, у вашего законодателя – дом очень простой, зато какие люди в нём живут, и какой дух здесь витает. Я уже видел в Элладе множество огромных зданий, да дела в них творятся мерзкие, недостойные хорошего человека. И пахнет в них исключительно вином и развратом. Скверной несёт от многих из этих домов.
Феспид и Главкон удивились столь разумному ответу чужестранца. Меж тем Анахарсис продолжал:
– Важными делами можно заниматься всюду – в лесу, в поле, на берегу моря и реки.
– Вот те на! – крякнув, перебил его Главкон. А затем, хитро подмигнув Феспиду, лукаво спросил скифа: – А вот где вы, к примеру, учитесь метать копьё?
Анахарсис пожал плечами в знак того, что он не совсем понял вопрос.
– Они, видимо, не знают, что такое копьё. А если даже знают, то сами вряд ли держали его в руках, – улыбнувшись, поддел скифа Феспид.
Вдруг основательно охмелевший Главкон резко вскочил на ноги, решительно подошёл к висевшему на стене Солонову копью, взял его своей единственной рукой, посмотрел на Анахарсиса и задиристо произнёс:
– Пошли в сад, я тебе покажу что это и для чего оно предназначено. А если потребуется, то научу тебя им пользоваться!
Вся застольная компания весело поднялась и, взяв ещё одно копьё и короткий меч, направилась к площадке, расположенной в укромном уголке сада. Именно там Солон и его сын многие годы упражнялись в искусстве метания копья. Впереди, шагах в тридцати, стоял большой деревянный щит, на котором были нарисованы люди, кони, вепрь и даже ворон. Главкон сделал несколько шагов вперёд-назад, потряс копьё своей рукой и затем мощно метнул его в сторону щита. Оно точнёхонько попало в коня, и метавший, удовлетворённый результатом, победно посмотрел на Анахарсиса. Тот удивлённо молчал, широко открыв глаза, не веря случившемуся. Тем временем Феспид молниеносно метнул другое копьё, попав в грудь нарисованному всаднику. Скифский царевич никак не мог понять, как подобное возможно? Ведь копьё метали люди, которые, как ему казалось, далеки от ратного дела. Главкон – смотритель диктерионов, к тому же инвалид. Феспид – поэт, его главное оружие – слово, кифара и лира. Чудеса и только. Видя смятение скифского гостя, Главкон гордо молвил:
– Что мы! Это всего лишь ученические забавы. Ты бы посмотрел, как метает копьё Солон. Как он, Анахарсис, божественно метает! – пропел Главкон. – Арес ему завидует, не говоря уже о людях.
Законодатель, тут же протестуя, замахал руками и воскликнул:
– Нет-нет! Я давно не упражнялся в метаниях и вряд ли попаду в щит. А в цель и того более. Лучше, Главкон, не побуждай меня. Теперь я законодатель, а не воин.
– Солон, не забывай, что ты был знаменитым стратегом. Покажи молодёжи, как мы умели и умеем воевать. Подними их боевой дух, – провоцировал его Главкон. – Иначе они скажут, что мы старики и нам пора на покой. Ты представляешь, каково будет тебе и мне?!
Солону, дабы поддержать дух веселья и хорошего настроения и к тому же не ударить в грязь лицом, после некоторых сомнений пришлось взять копьё в руку и провести интенсивную разминку. Затем он повернулся к царевичу и задорно спросил его:
– Вот ты, гость, во что желал бы попасть?
Анахарсис задумался, скривился, а Главкон, тут как тут, лукаво подсказал своему другу:
– Я, Солон, желаю, чтобы ты попал в глаз ворону.
– Между прочим, я спрашиваю не тебя, а скифского царевича, – проворчал Солон.
Анахарсис улыбнулся, полагая, что афинский мудрец и бросать-то толком не умеет. Всё-таки мудрец, а не воин. Тем не менее, он решил подыграть Главкону и задать нелёгкую хозяину копья:
– Согласен с Главконом! – воскликнул он весело. – Попади в глаз! Только не ворону, а всаднику. Арес свидетель, всадник, как-никак, опаснее ворона. Птицу за что зря убивать? И было бы совсем потрясающе, если бы ты, Солон, не смотрел на цель, в которую мечешь копьё, а метнул с закрытыми глазами.
Не успел Анахарсис толком сформулировать просьбу, как Солон тут же со страшной силой метнул копьё, и оно со свистом вонзилось в щит, в то место, где были нарисованы глаза человека. Пока восхищённые друзья широко рассматривали, куда же попал боевой снаряд, Сах вручил Солону второе копьё и к всеобщему изумлению одел повязку на глаза метателю. Солон сделал шаг вперёд и вслепую запустил снаряд в том же направлении, что и первое копьё. Оно точнёхонько вонзилось во второй глаз, нарисованного всадника. Все увидели восхитительную картину – копьеносный взгляд человека, сидящего на коне. Солон немедля снял с глаз повязку, взял в руку короткий меч и метнул его в сторону ворона. Меч вонзился в голову нарисованной птицы. Метатель заулыбался, обвёл присутствовавших гостей гордым, но стеснительным взглядом и радостно промолвил:
– Надеюсь, все просьбы мною выполнены, или ты, Главкон, снова чем-то недоволен?
Главкон был более чем доволен. То, как умеет метать копьё Солон, он видел, причём видел в деле. Но чтобы с завязанными глазами, да с такой невероятной точностью, даже он об этом не знал. Не знал он также и об умении законодателя так далеко и точно метать в сложную цель меч. Восхитившись своим другом, Главкон повернулся к Анахарсису, улыбнулся и иронично произнёс:
– Ну, что, царевич, понял ли ты, с кем имеешь дело? Но ты, ещё не знаешь, как он мечет законы. Представляешь, на каждой Экклесии Солон мечет законы в сердца и души афинский мужей. И те, словно мишени, не могут ничем возразить ему.
Не замедлил поделиться впечатлениями от увиденного здесь зрелища и Феспид. Он торжествующе победоносно посмотрел на царевича и припомнил ему застольный разговор:
– Так вот, любезный скиф, если у вас дом – это люди, то у нас – это и люди, и стены, и оружие, которое там находится, и мысли, которые там зарождаются, и отношения с друзьями и соседями, а также гости, бывающие там довольно часто. Надеюсь, ты понял, что такое афинский дом?
Анахарсис не ответил Феспиду. Но куда-то в сторону и непонятно кому тихо сказал:
– Дом дому рознь.
Главкон, который было на время успокоился, после некоторых раздумий, снова решил продолжить испытания молодого скифа. Он спросил его:
– Скажи, царевич, а какое ваше главное оружие? Чем вы воюете?
– Разумеется, лук и стрела, – ответил тот. – Они лёгкие, удобные, точные, не сродни копью.
– Не хочешь ли ты сказать, что наше оружие уступает вашему оружию? Имей в виду – от стрелы можно запросто укрыться, к примеру, добротным щитом, а от копья и меча защиты нет. Вернее она есть. От копья и меча защитой может быть только более мощное копьё и более крепкий меч. Но если они находятся в руках Солона или моей руке, то пощады никому из врагов не будет. Не завидую я им!
У скифов, как я полагаю, – поддержал разговор Солон, – покоряют людей и поддерживают порядок силой оружия. Так поступают многие народы. Не все ещё поняли, что силой оружия можно покорить только на некоторое время, а силой закона и ума – на века. Хотя, конечно, в этом вопросе не всё однозначно.
Тут следует заметить, что Анахарсису воевать не довелось. И как там, в бою, орудуют копьём и мечом он, разумеется, не знал. Царевич с трудом научился стрелять из лука. Да и то, главным образом – в дерево. Молчавший всё это время ареопагит Аристодор, вдруг решительно вмешался в разговор, энергично поддержав мысль Солона.
– Закон у афинян лучшее оружие, – с возвышенным пафосом молвил он. – Его не пронзит ни меч, ни копьё, ни стрела. Он сражает всех и сразу. И противостоять ему нечем. Вот каким оружием необходимо владеть, царевич. Солон – наш законодатель, им владеет даже лучше, нежели копьём и мечом. Хотя, как только что мы убедились, ему нет равных мужей, во владении любым оружием. Мудрый политик должен владеть всеми видами оружия и уметь применять их в зависимости от обстоятельств.
– Интересно, – прошептал царевич, – очень важную мысль подал Аристодор.
– Не менее важным оружием афинян, да и всех эллинов, является слово, – встрял в разговор Феспид. – Мы этим оружием владеем в совершенстве. Словом можно сразить любого человека наповал и даже многих людей сразу. Вот, когда Солон выступает в Экклесии, то все граждане афинские поражены произнесёнными речами. Они неизбежно становятся его пленниками. Или, скажем, слово Гомера или Гесиода может творить великие чудеса. Согласен, Солон? – тут же, молодой поэт обратился к поэту известному.
– Видишь ли, Феспид, – отозвался Солон, – каждое оружие имеет свою силу, время и место применения. В яростной битве с врагом сгодятся и лук со стрелой и меч, и копьё и щит и кулак. И закон является мощным оружием, но не для всех. Для скифов, например, – нет. В той же самой жестокой битве никто не вспоминает законов. Там закон один – убей врага, иначе он убьёт тебя. Слово, о котором говорил Феспид, тоже достойное оружие, но и оно не всегда имеет успех. И даже Гомер с Гесиодом ничего не значат для многих варваров. Так что любое оружие относительно. Его сила ограничена и временем, и местом, и обстоятельствами. Но всё же, я полагаю, есть такое оружие, которое сильнее всего, причём у всех народов. И это оружие – мысль; сильная, разумная, взвешенная мысль. Именно она порождает закон. Мысль направляет слово, руководит нашим языком, даёт указание руке, куда и когда направлять копьё, меч, стрелу, камень. Она определяет, когда необходимо остановиться, а когда бежать с поля боя при неудачном стечении обстоятельств. Так что, друзья мои, Солон склонен считать, что главное оружие разумного человека – это мысль. Причём не какая-нибудь, а взвешенная и продуманная мысль. Мысль действенная и деловая, хитроумная мысль. Без неё ничто не творится в человеческой жизни. А если что и творится, то результаты такого творения отвратительны.
Афинский мудрец сделал небольшую паузу, посмотрел на Аристодора, на Главкона, затем на Феспида и, наконец, на скифского царевича, потом, добродушно рассмеявшись, продолжил:
– Я, собственно, не настаиваю. Некоторые мои друзья и сограждане мысли не признают. Для одного из них превыше всего меч, а для другого – слово. Вот интересно было бы посмотреть на бессмысленное сражение меча и слова.
Феспид слегка обиделся на Солона, но виду не подал, а наоборот решил усилить свою точку зрения. Он немедля возразил Солону, а соответственно, и всем присутствующим здесь:
– Мы ещё не до конца поняли силу слова. И, не важно, порождается оно мыслью или стихийным потоком жизни. Слово – это силище. Ведь оно воздействует на всех – мужей, женщин, детей, стариков, рабов, эллинов и варваров, даже на богов. А если это слово красивое, звучное, привлекательное, значимое и уместное, то оно может покорить всех, вызвать у людей самые глубокие чувства. Вот увидите. Со временем я докажу вам и всем остальным его величие, силу и подлинную значимость. Его величество слово!
– Что есть настоящее слово и какова его подлинная сила? – спросил Анахарсис.
– Настоящее слово – это творческая мысль, воплощённая в звуке, – ответил Феспид. – А сила его различна. Оно может очаровать людей, а может и разочаровать их. Главное, чтобы оно было звучным, красивым, привлекательным, уместным.
– Слово, исходящее из разумной мысли, – это действительно сила, – уточнил Солон.
Застолье и развлечения в саду затянулись допоздна. Его участники обсуждали самые разные вопросы. Главкона, например, интересовало, чем питаются скифы, есть ли у них хлеб, рынок, баня. Анахарсис ответил, что хлеба у них в избытке и что даже эллины едят хлеб из скифского зерна. Главкон почему-то не знал этого и вопросительно посмотрел на Солона. Тот стал активно кивать головой, а потом уточнил:
– Скифское зерно – лучшее и, пожалуй, самое дешёвое. Скифы, к нашему удовольствию, не умеют торговаться, как мы. Иногда на рынке свои товары они отдают за полцены. А хитрые и проворные эллины пользуются этим.
– Рынок, особенно эллинский, – включился в разговор Анахарсис – это место, придуманное вами нарочно, чтобы обманывать друг друга, не говоря уже о нас – скифах. Мои соотечественники бесхитростны и всяких рыночных уловок не знают и по этой причине часто остаются в проигрыше. А, посему, и рынок не любят.
– Да кто его любит? – встрял в разговор Феспид. – Глаза б мои его не видели. Едва ли не все деньги оставляю там. И, главное, непонятно, кому и зачем их отдаю. Стоит только войти в рынок, сразу же теряюсь. И то понравится, и это, и даже то, что не понравилось, зачем-то покупаю. Вроде бы не собирался, но торговцы непременно очаруют собственными причитаниями и уговорят меня что-нибудь приобрести. Ох, если бы моя воля, то не сомневайтесь – разогнал бы все эти торговые сборища, а на их месте возвёл храмы и здания для увеселительных развлечений.
– Где-где, а на рынке творится всякое. И развлечений там, Феспид, тоже хватает, – незамедлительно отреагировал Солон. – На рынке действуют свои законы, причём далеко не лучшие, часто противоречащие установлениям государства. Но без рынка, поверь мне, тоже нельзя прожить. Если бы ты даже очень желал этого, то, всё равно, никак нельзя! Для нашей жизни рынок не менее важен, нежели Экклесия, или храм. Я бы даже рискнул заметить, что есть люди, способные прожить без них, а без рынка – никто не может существовать. Но, скажу вам, друзья мои, что Анахарсис, рассуждая о рынке, подал добротную мысль. В торговле следует навести порядок. Время для упорядочения – настало. Пожалуй, я разработаю закон по этому вопросу. А пока закона нет – завтра же стражам дам распоряжение, чтобы следили за порядком на рынке и справедливыми ценами на товары. Между прочим, стража у нас скифская, её начальник тоже скиф. Полагаю, что они изменят положение дел к лучшему. Из их числа следует назначить агорономов.
Таким образом, Анахарсис стал сопричастным к появлению закона «О рынке», который был принят некоторое время спустя.
– А как же всё-таки с баней? – не унимался Главкон. – Вы, скифы, моетесь или нет? Где, когда и чем вы моетесь? – допрашивал он царевича. – Дело-то важное и меня оно интересует больше, нежели какой-то там рынок.
– Моемся мы, моемся, Главкон. Моемся водой и снегом. Делаем это тогда, когда возникает необходимость и желание. Моемся, где придётся – в реке, в ручье, в море, даже в лесу, если находим там воду.
– А правда ли, что вы – скифы, можете ходить в зимние морозные дни голыми? – наседал Главкон.
– Ну, это не вопрос, – возгордился Анахарсис, – ходить обнажёнными – мы не стыдимся и не боимся делать подобное даже во время сильного мороза. Ты ведь ходишь по морозу с открытым лицом? Так вот, у меня всё тело, как твоё лицо – мороза не боится.
– Главкон тоже однажды испробовал закалить всё своё «большое лицо» на снегу, – рассмеялся Аристодор, – когда у Солона перебрал вина. И если бы не твой сородич Иеракс, нашедший и спасший его, то не было бы кому сейчас задавать тебе коварные вопросы. Аид до сих пор по нём скучает.
Услышав подобное, Солон удивлённо поднял глаза на своего ближайшего друга и тревожно спросил:
– Главкон, что я слышу? Неужели это правда? Почему я об этом ничего не знаю? Опьянение есть искушение. Пьянство есть истинное безумие, оно лишает нас способностей. Или ты игнорируешь сей афоризм?
Бывший стратег застеснялся, раскраснелся, почувствовал себя неловко, будто его схватили за руку при попытке воровства. Он опустил низко голову и тихо ответил:
– Знать всем о случившемся не обязательно. Невелико событие. Я и сам о нём подзабыл. Если бы не Аристодор, то о таком «приятном» никогда бы и не вспомнил. Да и скажу я тебе честно – явно преувеличивает ареопагит. Подумаешь, упал Главкон слегка, повалялся с удовольствием в снегу; снега ведь давно не было. Немного натёр им своё тело. А тут случайно рядом оказался Иеракс с двумя стражниками. Ну, помогли они мне подняться, довели до дома и ушли восвояси. Хотя, Солон, не сомневайся, я бы добрался самостоятельно. Я в своих силах всегда уверен, ты же меня знаешь.
– Главкон, – поучающе произнёс Солон, – избегай удовольствия, которое рождает печаль. Твоё излишнее увлечение вином могло бы закончиться печально для всех нас.
– Вот видишь, скифы спасли тебя, а ты их третируешь, – встрял в разговор Феспид. – Негоже так. Вместо благодарности их царевичу, ты измучил его своими вопросами.
Главкон уже перестал было расспрашивать Анахарсиса, но от одного-двух вопросов никак не смог удержаться.
– А насчёт диктерионов у вас как обстоят дела?
– Насчёт чего-чего? – явно не понял вопроса царевич.
– Ну, насчёт того, чем я сейчас занимаюсь на государственном поприще. То есть публичной проституции.
Анахарсис недоумевающе глазел на смотрителя афинских диктерионов, не понимая существа заданного им вопроса. Все присутствующие заулыбались и начали подмигивать Главкону, дескать, ну зачем так? О каких таких диктерионах может идти речь в Скифии? У них же нет никаких домов, не то чтобы диктерионов. Не в кибитках же их обустраивать. Оставь, во имя Афродиты, гостя в покое. Тем не менее, сомневающийся Главкон недовольно буркнул себе под нос: «Никогда не подумал бы, что в Скифии нет диктерионов, даже скифских. И как они там без них живут».
Тут вовремя вступил в разговор Аристодор, решивший задать гостю вопрос основательнейший. Он, видимо, долго шёл к нему, можно сказать даже, подкрадывался, прислушивался и присматривался, не задаст ли его, этот вопрос, кто-нибудь другой из участников сегодняшней встречи. Но поскольку никому в голову такая затея не пришла, то ареопагит, скрепя сердцем в конце концов из себя выдавил:
– Ответь мне и всем нам, любезный гость, на политический вопрос. Скифия – это государство или свободное сожительство степных народов? Имеются ли у вас архонты, Буле, Гелиэя, Ареопаг, Экклесия? Действуют ли принятые гражданами или кем-либо другим законы? Защищены ли у вас граждане и имеются ли вообще граждане? Имеется ли у вас настоящая политическая жизнь?
Анахарсис, который до сих пор ощущал себя хорошо, несмотря на колючие вопросы Главкона, после вопроса Аристодора немного растерся, можно даже сказать попал в серьёзное затруднение. Он не сомневался в том, что афиняне знали ответы на эти вопросы, но видимо хотели услышать их от самого скифского царевича. Им стало интересно, как объяснит политическое состояние скифов их царевич. То есть человек, имеющий прямое отношение к государственности. Соблазн-то велик, очень велик, для мужей, интересующихся политикой.
Будучи не совсем готовым к ответу на столь сложный вопрос, Анахарсис высказал то, что в сию минуту пришло ему на ум:
– Нельзя полагать, что мы – дикари, и что у нас отсутствует государственная власть. Она имеется, в противном случае я не был бы царевичем и вряд ли находился среди вас. Разве что в качестве раба. Государственность имеется у скифов, однако она далека от эллинской. Всего того, о чём ты спрашивал Аристодор, у нас нет. Но разве во всём мире мы одни такие? Подобных нам народов и государств – не счесть. Это только вы – эллины, опередили нас намного в деле строительства государственных начал и во многом другом. Мы будем у вас учиться этому, за сим я и прибыл в Аттику. Да, насчёт жизни в Скифии так скажу. Она у нас есть, живут же люди. Но если говорить честно, откровенно, то я склонен считать, что подлинная жизнь мне встречалась только в Афинах, а в Скифии – прозябание.
Видя тяжёлое затруднение скифа, Главкон решил помочь ему более простыми житейскими вопросами. И как ни в чём не бывало, после довольно длительной паузы, вполне доброжелательно снова спросил чужестранца:
– Ну, ладно, оставим в покое диктерионы, и тем более неинтересные вопросы ареопагита, скажи-ка лучше мне, царевич, чем вы там питаетесь? Вы, небось, пищу вовсе не готовите, поскольку нету домов?
– Питаемся всем тем, что принимает желудок. Мясо, рыбу, хлеб, фрукты и ягоды едим с удовольствием. В голодные времена можем употреблять корни, червей, жучков. Но скифы никогда не пересыщаются. Они в вопросах приёма пищи знают меру, в отличие от многих эллинов, любящих безмерно поесть.
«Какая разумная мера, если вы едите червей и жуков?» – подумал Главкон, но не стал обижать Анахарсиса и смолчал.
– Я хочу о серьёзных делах расспросить нашего гостя, а не о червях и жучках, – вдруг неожиданно для всех молвил Феспид.
Причём произнёс это он таким тоном, как будто всё то, о чём ранее расспрашивали Анахарсиса, было пустяковым делом. Главкон, казалось, готов был от недовольства сорваться с места и наброситься на молодого поэта. Другие участники застолья тоже бросили недовольные взгляды в сторону поэта.
– Я говорю это не шутки ради, а ради истины и обстоятельного познания скифской жизни, – объяснил Феспид свой замысел. – Так вот, Анахарсис, ответь нам, эллинам – боги у скифов есть? А то я слышал, что вместо богов вы поклоняетесь странным идолам, кумирам.
Анахарсис недоумённо посмотрел на Феспида, будто-бы он спросил его не о богах, а о том, есть ли в Скифии люди на двух ногах. Недолго думая, он страстно произнёс:
– Если есть мы, то должны быть и боги. Без богов люди не могут жить!
– И скифы тоже не могут? – иронично спросил Феспид.
– А скифы что не люди? – возмущённо ответил царевич. – Такое у меня предчувствие, Феспид, что ты стремишься, стать скифским жрецом, полагая, что мы не способны к вере и жречеству, и собираешься нас учить всему такому.
– А скифские боги без людей могут жить? – с неподдельным любопытством и вполне серьёзно спросил Главкон и сразу же опасливо посмотрел в сторону Солона.
– Почему ты меня об этом спрашиваешь, Главкон? Я не Бог, я всего лишь царевич и то – скифский. Обратись с этим вопросам к самим богам. На худой конец к оракулу. Может они удовлетворят твоё странное любопытство.
Молчавший во время этого спора Солон заинтересованно попросил царевича кратко рассказать о богах скифского народа, о их именах, о том, в чём они покровительствуют людям.
– Действительно, скажу кратко, – ответил Анахарсис. – Ибо всё сложно и даже бесконечно. Богов у нас меньше, нежели у эллинов, но тоже достаточно много. К тому же каждое скифское племя имеет собственных богов. Назову самых почитаемых из всех: Папай – так зовут нашего Зевса, он Бог неба. Апи – его супруга, равна эллинской Гее, но покровительствует и земле, и морю. Ойтосир – сравним с Аполлоном, он Бог солнца. Аргимпаса – Богиня плодородия и владычица дикой природы. Она близка к Деметре, Артемиде и Афродите. Таргитай – почитается как наш первопредок, так сказать, скифский первочеловек. Он близок к вашему Гераклу. Тагимасада – сравним с вашим Посейдоном. Ему преимущественно поклоняются скифские вожди и цари. Особо хочу сказать о Табити. Мой отец почитает её царицей над всеми богами, а также божественной царицей скифского народа. Она покровительствует власти, домашнему очагу, посредничает между небесными и земными силами. Хочу сказать вам откровенно, что вопрос о наших богах очень неоднозначный. Много спорного и непонятного для Анахарсиса в божественном скифском мире. Между многими нашими богами и кумирами нет разницы. Во всяком случае, я её не вижу и не нахожу. Полагаю этого достаточно для первого знакомства с нашей религией. Кто хочет знать больше – отправляйтесь в скифские степи.
– Ты прости меня, царевич, – отягчающе произнёс Главкон. – Нелегко добраться до ваших степей, а посему позволю себе ещё такой вопрос, да и без знания ответа на него опасно к вам направляться. Меня сильно беспокоят злые духи. Есть они в Скифии или все сбежали оттуда?
– Злые духи, Главкон, всегда есть там, где есть люди. И особенно их много там, где в избытке злых людей. Но добрым и честным индивидам бояться их нечего. Зло страшится добра. А добро не приемлет зло. Поэтому их встреча не сулит ничего хорошего злу. Добро всегда сильнее зла, если даже зло временно торжествует. Зло также не приемлет другое зло; меж собою они враги. А вот добро всегда в дружбе с другим добром. Будь добрым, Главкон, и будь сильным. Тогда никто тебе не будет страшен даже в наших степях.
– А ему и так никто не страшен, – рассмеялся Аристодор.
Главкон внимательно слушал скифа и неопределённо покачивал головой. Само собой, разумеется, у него возникло несколько вопросов по делам религиозным, но задавать их царевичу не стал, видя, с каким большим напряжением тот излагает их. Иначе и быть не могло, тема для человека тяжёлая. Более того, он решил выручить Анахарсиса и, взглянув на Феспида шутки ради, спросил царевича:
– А мечтаете вы, скифы, о чём?
– Кто о чём, – улыбнувшись, ответил царевич. – Кто-то о том, чтобы стать царём или царицей, кто-то мечтает приобрести хорошего коня, кто-то всё время размышляет об оружии, а у иного мечта – добротно поесть или выспаться. Кто-то всё время думает о том, чтобы выжить. Да мало ли о чём мечтают наши люди. У каждого человека своя мечта. И вряд ли он о ней кому-либо рассказывает. А я мечтаю о том, чтобы мои скифы не голодали, не мёрзли, не гибли зря, жили в таких условиях, как эллины, и были такими же образованными людьми. А для этого я буду стремиться постичь многие премудрости жизни. А ты, Главкон, о чём хорошем мечтаешь?
– Я? – удивился Главкон, видимо, не ожидая, что вопрос, заданный им, вернётся ему самому. Он почесал затылок и, шутя, поведал скифу:
– Моя заветная мечта благодаря Солону уже сбылась – я стал порностратегом. Может ли кто из настоящих мужей мечтать о большем? Вряд ли! Правда, по секрету, скажу лишь только тебе ещё об одной моей мечте, исполнить которую не поможет даже наш законодатель. Ибо тут государственные законы бессильны. Она заключается в том, чтобы… чтобы самому почесать левую лопатку. За это, Анахарсис, я готов пожертвовать чем угодно. Ты себе представить не можешь, как мне хочется иногда почесать правой рукой левую лопатку. Но поскольку правой руки у меня нет, то сделать этого я не могу. И, видимо, никогда уже не смогу, никогда!
– Так почеши левой, Главкон!
– Левая рука толком не достаёт, а правой руки – нет. И я, царевич, об этом только и мечтаю. Днём и ночью об этом лишь думаю, особенно когда там чешется. Но ведь чешется и в других местах, куда левой рукой никак не достанешь. И таких мест у меня предостаточно. Ты не представляешь, какие муки претерпеваю я.
– Так попроси кого-нибудь, Главкон, они помогут, и твоя мечта легко исполнится. Попроси, к примеру жену, и она исполнит твою мечту.
– Это совершенно не то. Ведь там, где надо, где сильно хочется и как надо – никто не почешет. Никто и никогда! Жена тем более.
– А вот моя заветная мечта, – перебил Главкона Солон, – о том, чтобы все жители Аттики, а затем и всей Эллады добротно знали законы и повседневно их придерживались. Я мечтаю о том, чтобы законопослушание стало обычным для всех делом. Дабы люди никогда не убивали друг друга, не обворовывали, не оскорбляли, не обижали, беспричинно не видели в других врага.
– Ну, это мечта Солона-законодателя. А Солона-человека? У Солона-человека и Солона-поэта какова заветная мечта? – уточнил Анахарсис.
– Названные тобою грани во мне разграничить нелегко. Где кончается Солон-законодатель и где начинается Солон-поэт и тем более Солон-человек, не так-то просто. Но твой хороший вопрос, Анахарсис, мне понятен и приятен. И отвечу на него я следующим образом. Ещё одна моя заветная мечта состоит в том, чтобы каждый афинянин, каждый человек поверил в себя, уверовал в собственные силы и возможности. Чтобы каждый был умным, честным, здоровым, сильным, самодостаточным. Чтобы он не роптал, не просил подачек, не ждал даров со стороны Солона, Аристодора, Главкона, со стороны государства, наконец, со стороны неба. И тем более не воровал, не завидовал, не упрекал, не отчаивался. Чтобы все усердно трудились, обогащались, улучшали свою жизнь, жили в большом достатке.
А ещё я мечтаю, чтобы люди не мешали друг другу хорошо жить, а, наоборот, – помогали. Чтобы они радовались не только своему успеху, но и достижениям своих ближних и дальних соотечественников. Чтобы дети любили родителей, как те любят их, чтобы соседи были друзьями, чтобы везде воцарился мир и чтобы быстрее подрос мой внук Тимолай. Я мечтаю более всего о том, чтобы Афины стали не просто государством демократии, но и полисом довольных жизнью людей. Чтобы каждый мог сказать – жизнь для меня не муки, но радость. Вот в чём состоит сиюминутная мечта Солона человека и поэта. Но по секрету скажу вам, что череда моих мечтаний нескончаема. С каждым мгновением я мечтаю всё больше и больше. Солон – мечтательная натура.
– А у меня, честно говоря, и мечты никакой нет, – подключился к разговору Аристодор. – Я человек без возвышенных мечтаний. Можете себе представить такого? Вы все мечтаете о высоком и далёком, скорее о несбыточном. Не скрою, я иногда размышляю о двух вещах и молю об этом богов – о собственном здоровье и о прочности здоровья афинского государства. Главное, чтобы Афины никогда не утратили того, чего они достигли сейчас. Важно сохранить то, что мы имеем. Вы, видимо, не представляете себе, как сложно сберечь добытое ранее. Всякая добыча даётся тяжело, а её сохранение ещё тяжелее. Если здоров человек и не больно государство, то это ли не заветная мечта умеренного человека? Полагаю, что ничего более мечтательного мне и не надо!
– А какова мечта юного Писистрата? – неожиданно для всех спросил Аристодор у никем не замечаемого всё это время родственника Солона.
Все одновременно повернулись в ту сторону, где он сейчас находился и с любопытством ждали его ответа. Было видно, что Писистрат совершенно не ожидал подобного вопроса. Но, сообразив, что его испытуют, он, тут же, не мудрствуя лукаво, ответил так же, как Аристодор.
– Я не менее Аристодора мечтаю о мощи афинского государства, о его силе, влиянии, о благе и здоровье всех афинян. Я мечтаю о крепкой власти в нём, о богатой жизни всех граждан, особенно простого народа.
Все внимательно прислушались к сказанному, но смолчали.
– Мечта Феспида – создать в поэзии такое, что покоряло бы и восхищало всех людей, чему бы они радовались, восторгались, стремились к самому возвышенному, сострадали, приходили посмотреть на это, как на божественное явление, – произнёс поистине мечтательно поэт. – И место, где народ будет собираться, я назову театром, а то, что они будут смотреть – трагедией. Как прекрасно звучит такое слово – т-р-а-г-е-д-и-я! И будут приходить туда мужи и женщины, взрослые, и дети, свободные и подневольные, граждане, и метеки, эллины и варвары. И театр объеденит всех лучше, нежели любые законы или политические союзы и договора. Зрители будут осознавать себя как единое целое. В театре они увидят всё – мир, войну, любовь, предательство, измену, героизм, славу, счастье и несчастье, честь и бесчестие. Они увидят жизнь во всей её полноте, увидят и услышат себя! Они ощутят себя частицей этой жизни. Человеческий дух возьмёт верх над делами обыденными и повседневными.
– Вот уж воистину размечтался, – сказали в один голос Главкон и Солон. – Дожить бы до того времени. Хотелось бы увидеть и почувствовать всё такое.
– По ходу феспидовых мечтаний у меня родилась ещё одна собственная мечта, – вдруг, встрепенулся Главкон. – Учитывая то, что до рождения трагедии я вряд ли доживу, то появилось желание увидеть хотя бы скифские края. Вот побывать бы у них нам с тобою, Феспид, а? И своими глазами на всё посмотреть. Что ты на сей счёт скажешь?
Поэт тут же поддержал его:
– Когда Анахарсис из царевича превратится в царя, а из строптивого молодого мужа преобразится в мудреца – непременно там побываем. Посейдон нам в помощь…
– Клянусь Папаем, а также Зевсом, принадлежать к царскому роду вовсе не значит быть царём, так же, как и сидеть рядом с мудрецами – не значит стать мудрым, – перебил Феспида Анахарсис. – Ещё опасней стремиться сразу к двум родам – царей и мудрецов. Может случиться так, что не станешь ни тем, ни другим. Думаю так и будет. Но если бы было возможно, то я б с радостью поменял все царства на одно – царство истины и мудрости, чтобы хоть немного в нём пожить, поблаженствовать.
Но Феспид, будто не слыша суждений царевича спокойно продолжил:
– И Солона с собой в Скифию возьмём, и Аристодора, и внука Солона – Тимолая. Малыш, к твоему сведению, уже знает скифский язык и постоянно из себя изображает скифа. Этому его научил Сах. Солон, как видишь, целиком попал в скифское окружение. Чем это закончится, даже предположить не могу. Того и смотри ещё нашего законодателя сделают скифом. Такой законодатель, как наш, скифам весьма понадобился бы.
– Ничего-ничего, окружение хоть и скифское, но добротное, надёжное. Иногда надёжней эллинского, – добродушно отреагировал Солон. – Скифам я доверяю во всём. Доверяю им нисколько не меньше, нежели порядочным афинянам. По большому счёту, для меня важно не какого рода-племени человек, а каков он по своим нравственным и деловым качествам. Можно ли с ним иметь дело. Со скифами, смею всех заверить, дела иметь позволительно. Им можно довериться в самых ответственных делах. И они не случайно охраняют наш государственный порядок и даже нас самих от всякого рода посягательств наших же сограждан. Скифы – незаменимые афинские стражи. Замечу – стражи законности, мудрости и добродетели.
Анахарсис после этих слов ещё больше проникся к афинскому мудрецу тёплыми чувствами и ощутил себя в более надёжном окружении, нежели дома – в Скифии. Действительно, дом – это не стены, а люди, а хороший дом – хорошие люди. Царевич знал Солона всего два дня, но ему уже казалось, что знакомство с ним длится целую вечность. «Как же мне повезло, – подумал он. – Благодарю вас за это эллинские и скифские боги!»
Вместе с тем, и Солон считал прибытие Анахарсиса в Афины очень большой удачей для себя. Одарённый любострастный скиф разбудил в афинянине дремавшие мощные творческие силы. Ведь на каждый сложный вопрос царевича следовало искать утончённый, а самое главное – убедительный ответ. Анахарсис постоянно докапывался до оснований, что побуждало и афинского мудреца делать то же самое в поисках ответов. Скиф никогда не останавливался на полпути. Он твёрдо и, главное, кратчайшим путём стремился к цели.
Однажды Солон пригласил Анахарсиса посмотреть на работу Экклесии. Собрание проходило очень бурно. После выступления законодателя в обсуждении вопроса о ходе строительства дороги и некоторых зданий выступили представители всех фил. Их речи скорее были эмоциональными, безудержными, нежели деловыми. Раздавалась критика, имелось бурное недовольство, даже некоторая распущенность. Предлагались различные решения, причём не по делу. Бедный Анахарсис смотрел на всё это и не знал, как быть. После собрания он возмущенно сказал афинскому законодателю:
– У вас – афинян, говорят мудрецы, а решают дела невежи. Они же действуют не по разуму, а по настроению.
Он имел в виду то, что нельзя полагаться на решения, которые принимает большинство возбуждённых граждан.
Солон, улыбнувшись, так ответил ему на сделанное замечание:
– Если бы все дела решали одни мудрецы и они же принимали законы, то ни один из них никогда не был бы принят и ни одно дело не было бы своевременно решено. И вообще, ничего не было бы сделано. До сих пор всё ещё обсуждалось бы. Так что, любезный Анахарсис, не обязательно всем быть большими знатоками каждого вопроса. Порой достаточно одного хорошо знающего. К тому же, погалдели, пошумели мои сограждане, слегка возмутились, а решение приняли всё-таки то, которое предложил я. Это и есть главное и мудрое в государственных делах, или хотя бы в данном случае.
– Иначе говоря, Солон, ты ненавязчиво, но мудро решил важный государственный вопрос. Решал его будто-бы народ, но на самом деле всё уже было решено заранее. Решено тобою от имени народа. В конечном итоге, и народ, уверовавший в свою силу доволен, и ты им доволен, поскольку принято твоё предложение.
– Думай, что хочешь, Анахарсис, это твоё право. Свободно мыслить в Афинах не запрещено и говорить то, что думаешь, тоже не запрещено никому. Афины – свободное государство. Главное для меня из того, что ты видел и слышал, заключается в том, что важный государственный вопрос решён. Решён справедливо и своевременно. Сами же особенности его решения, принципиального значения не имеют. Это то, что я называю особенностями, тонкостями политики и властвования, возможно даже политической мудростью. Между прочим, афиняне тоже искушены в политике. Они не такие простаки, как полагаешь ты.
Анахарсис проницательно смотрел на Солона, в глубине своей души искренне завидуя ему. Вернее даже не ему, а его способности находить нужные и своевременные решения, решения, имеющие государственный характер. Он не удержался, чтобы не задать очередной сложный вопрос:
– Скажи, законодатель, должен ли мудрец стремиться к господству над людьми? Может ли мудрец быть господином всему народу?
– Мудрец есть тот, кто прежде всего является господином самому себе, кто умеет в совершенстве управлять и распоряжаться собой. Он не царь и не тиран, стремящийся обладать непререкаемой политической властью. Власть мудреца иного рода. Это власть духа, власть мысли и слова, власть убеждения и авторитета. Наконец, власть знания и его верного применения. К такой власти люди тянутся, такой власти они не боятся, а некоторые сами желают попасть под её крыло. Они видят в ней добрые семена жизни и познания. Но, имей в виду, даже духовная власть не должна быть сверхсильной, тиранической, унижающей и принижающей людей, уничтожающей любые чужие здравые мысли. Ведь духом тоже можно порабощать и унижать, даже уничтожать. Власть мудреца базируется на доверии народа к нему, на вере в его замыслы и идеалы. По идее люди должны любить мудреца, искренне верить в сказанное и предложенное им.
– Разве такое бывает всегда? – удивлённо спросил скиф.
– В том-то и дело, что не всегда, – ответил афинянин. – Мудрец может оказаться непонятым своим народом. «Средний человек» не всегда почитает мудрость. Скорее даже, наоборот, недолюбливает её. В мудрости он видит опасность для себя.
– В чём опасность? – удивился Анахарсис.
– В том, что он – средний человек, весьма посредственный, недалёкий, а не возвышенный. Он завистливый, хочет большего, чем может. И мудрость обнажает сие положение дел. А посему мудрецы будут чаще не понятыми, нежели понятыми, чаще отвергнутыми, нежели принятыми, чаще несчастными, чем счастливыми.
– А несёт ли мудрец ответственность за всё это?
– За что именно? – переспросил Солон.
– За всё! За всё-всё-всё! – порывисто воскликнул скифский царевич.
– Вновь коварный вопрос исходит от тебя, любезный. Мне кажется, что нести прямую ответственность за всё происходящее в полисе мудрец не должен. Ведь он не государь и не подменяет собой весь народ. К тому же, мудрость мудростью, но должен быть и здравый смысл народа, его государственное чутьё. Представляешь, ведь и мудрец может ошибиться! И что тогда? Всё свалить на него? Тем не менее, полагаю я, мудрец несёт косвенную ответственность за происходящее в обществе. Ведь он не сумел донести до всех людей разумные идеи, не смог убедить их в собственной правоте, не смог разъяснить, не смог найти поддержки и опоры у граждан. Но эта ответственность не правовая, не по законам государства, а по законам этоса, по высшим законам нравственности. У мудреца имеется свой беспощадный судья – его личная совесть. Такой судья не даёт мудрецу ни минуты покоя, побуждая к размышлениям о происходящем и необходимым действиям во всеобщее благо.
Разговоры и споры, подобные этому, между Солоном и Анахарсисом происходили часто. Собеседники никогда не исчерпывали обсуждаемых тем. Всякая новая беседа порождала неисчислимое множество вопросов. Поиск ответов на них приводил к новым вопросам, а те, в свою очередь, становились источником небывалых идей. Так на земле Эллады зарождалась новая форма человеческого познания, названная позже философией. Зарождалась она, разумеется, не только в Афинах, но и в других полисах. Солон и Анахарсис были в числе её первопроходцев и неутомимых почитателей. Они не только почитали мудрость, но и искренне любили её. Да и как её можно не любить? Именно так размышлял царевич. Тот, кто не любит мудрость, не любит людей.