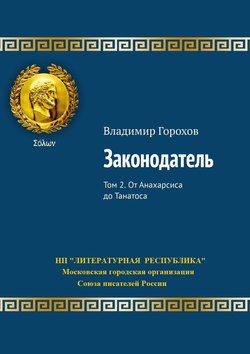Читать книгу Законодатель. Том 2. От Анахарсиса до Танатоса - Владимир Горохов - Страница 6
Книга о мудрейшем из мудрецов и величайшем законодателе
ГЛАВА V. ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ
~5~
ОглавлениеГод спустя после прибытия в Афины Анахарсиса, здесь появился ещё один почитатель мудрости. Это был муж высоченного роста и крепчайшего телосложения. О таких в афинском демосе говорят «дуб», а ещё говорят «циклоп», «гигант», «Геракл». Ростом он был примерно в пять локтей, возможно, чуть меньше; коренаст, широкоплеч, мускулист, кулаки размером с голову Анахарсиса. Правда, иногда афиняне дубами называли тех, кто «крепок задним умом», кто недалёк в делах умственных и житейских. Но это был не тот случай. «Сей дуб, так умён, как никакое другое человеческое древо», скажет позже о нём Солон Главкону, который за глаза называл прибывшего «дубом».
То, что этот человек умён, афинский мудрец знал давно. О таких индивидах нельзя не знать. Их грешно терять из поля зрения мудрствующего человека. Похожих на него мужей не столь уж и много. Помимо могучего тела он был заметен неподражаемым взглядом. Взор у него чистый, ясный, умный, любопытствующий, понимающий, открытый; взгляд честного человека. Это был взгляд светлозелёных, необычайно красивых глаз, которые напоминали две небольших луны. Анахарсис, с завистью ревнивого мальчишки посматривал на него и говорил о нём: «красив как эллинский бог», иногда утверждал, что сей муж не иначе как внебрачный сын Аполлона.
Вначале по прибытии в Аттику в общении с людьми он был сдержан, в меру застенчив, скромен, даже, казалось, немного стыдлив. Видимо, немного стеснялся своего роста или переживал за других мужей, что те не доросли даже до его плеч. Он, казалось, сочувствовал всем маленьким и очень маленьким мужам. Умышленно не называл их мужами, а какими-либо другими подходящими словами. И хотя афиняне не долюбливали застенчивость как таковую, но эту они приняли целиком. Более того – афиняне зауважали пришельца, хотя они не из тех, которые уважают первого встречного. Прибывший, если судить по его внешности, по годам был старше скифа. Но выглядел он достаточно молодо, как будто время над ним не властно. Он был столь же любознателен и пытлив, как и непоседливый скифский царевич.
Оказалось, это не кто иной, как Мисон, родившийся на Крите, но проживавший по большей части в Лаконике. С ним Солону лет пять назад доводилось мимоходом встречаться в Олимпии. Во время беседы, состоявшейся между ними, афинский мудрец сразу понял, что перед ним незаурядный индивид – человек огромного масштаба, таланта и обаяния. Можно сказать сильная натура, какие крайне редко встречаются, если встречаются вообще. Своего рода олимпионик ума и слова. Афинский мудрец без колебаний пригласил его в Аттику, на предмет погостить, побеседовать, поразмышлять, отдохнуть, посмотреть на афинскую жизнь, при желании – пожить в этих краях, а то и навсегда обосноваться здесь.
Так вот, этот незаурядный человек наконец-то прибыл в Афины. Прибыл он прежде всего, по той же причине, что и Анахарсис, – учиться мудрости. А раз учиться мудрости в Афинах, то сразу понятное дело у кого – у Солона. Такого намерения Мисон не скрывал. В Аттике ему всё понравилось ещё больше, нежели Анахарсису. Подумать только, он останется здесь на долгих тридцать лет. Купит дом, обзаведётся скромным хозяйством. Со временем он, как это не сложно было, получит афинское гражданство. Один из очень и очень немногих метеков.
Таким образом, примерно в одно и то же время у Солона появились два талантливейших ученика, ставших впоследствии всемирно известными мыслителями. А если к сказанному ещё добавить, что в постоянных философских беседах, дискуссиях на разные темы, в обсуждении законов, проводимых Солоном в узком кругу, принимали участие Феспид, Сусарион, Полифрадмон, Херил и другие известные и молодые поэты той поры, то можно с уверенностью сказать, что в начале восьмидесятых годов шестого века до нашей эры в Афинах формируется первая философская школа. Именно первая социально-философская школа, основную проблематику которой составляют вопросы государства, права, гражданства, межгосударственных отношений, человека и человеческой жизни, проблемы познания и поиска истины. Наряду с ними обсуждаются вопросы религии, нравственности, семьи, свободы и ответственности, частной и государственной собственности, искусства. Причём, идеи руководителя этой школы не были абстрактными, голословными и оторванными от жизни. Они воплощались в законах и в практике государственного строительства афинского полиса. Знаменитая милетская школа Фалеса возникает чуть позже, и её главная проблематика будет иметь натурфилософский характер. Можно сказать, что Солон опередил Фалеса в этом вопросе как минимум лет на десять. Данный факт, к сожалению, в наше время недооценивается. Но факт остаётся фактом. Конечно, само слово «школа» может быть здесь и не вполне уместно. Но то, что это было первое устойчивое творческое сообщество мудрствующих людей – сомнений не вызывает. Они часто общались с афинским мыслителем как в одиночку, так и все вместе. Собирались то у него дома, то у Феспида, то на Агоре, то на Пниксе или на Акрополе. Со стороны интересно было наблюдать, как Анахарсис вслушивался в каждое произнесённое Солоном слово. Он внимательно слушал и своего собрата по учёбе – Мисона. Царевич обожал поэтический дар Феспида. Впрочем, и поэзию Солона тоже. Ведь законодателем Солон стал по случаю, а от природы он был поэтом – величайшим из поэтов своего времени. Возможно, законотворческая деятельность основательно отвлекла его от занятий поэзией. Тем не менее, Солон сочинил около пяти тысяч элегий. Не исключено, что эллины стали бы свидетелями рождения новой «Илиады» или «Одиссеи». А для них великий поэт был выше великого законодателя, или на худой конец воспринимался вровень с законоискусником. Поэтому Анахарсис и Мисон также воспринимали и любили Солона и как законодателя, и как поэта, и как мудреца, и просто как порядочного человека. Анахарсиса и Мисона поражало то, что между ними и собой афинянин не возводил никаких преград и даже не намекал на то, что он учитель, а те – ученики, что он первое лицо государства, а они – никто в этом государстве. Они сами подобное хорошо понимали. Несмотря на то, что Анахарсис иногда преступал позволительную грань отношений «учитель – ученик», Солон, был терпелив и сдержан. Он не роптал, не порицал, не возмущался, не ругался, а просто интеллектуальными средствами деликатно ставил скифа на положенное место. Иногда отшучивался, порой не обращал никакого внимания на его «шалости», иногда иронично говорил, что он не дорос до понимания столь тяжёлых вопросов. Афинский мудрец видел, что скиф увлечён, а человек увлечённый о границах и пределах не думает. Даже Главкон порою, не выдерживая напора Анахарсиса, говорил ему:
– Ты хоть и царских кровей, однако, знай, своё место и знай разумную меру поведения. Не будь занозой в одном месте. Уважай афинское государство и его законодателя. Не то я сам начну тебя учить. Имей в виду, подобное тебе дорого обойдётся, ибо я учу не так, как Солон, а быстро и результативно. – Иногда он, шутя, говорил скифу: Не напирай так сильно, у меня всего лишь одна рука. А одной – тяжело тебя сдерживать.
Во время застолья Главкон мог обозвать его степной лягушкой, которая квакает зря, не уважая хозяев Афин, то есть Солона, Главкона, Аристодора, Феспида и других афинян. Простоковатый Главкон мог запросто потрепать царевича по шевелюре, похлопать его по плечу, обозвать едким словечком, вроде «норовистый ослик» или «степной жеребёнок». Однако Анахарсис не обижался на друга Солона. Он чувствовал, что это добродушный человек, в словах которого нет явной злости и тем более подлости. Но ревность и с той, и с другой стороны, несомненно, была. Главкону казалось, что новоявленный ученик забирает у Солона слишком много времени, которое могло быть потрачено на более важные государственные дела и, разумеется, на самого Главкона. Царевич тоже полагал, что Главкон забирает у афинского мудреца слишком много драгоценного времени, которое могло быть потрачено не на обыденные разговоры и застолья, а на возвышенные беседы и поиск глубоких истин. И Главкон, и Анахарсис нередко упрекали друг друга в том, что они неоправданно отрывают законодателя от важных дел и сами всё делают несвоевременно. Анахарсис однажды в присутствии Главкона так сказал:
– Вот я ежедневно говорю себе – всё надо делать своевременно. Всё-всё-всё! А ты?
Главкон, разумеется, мгновенно отреагировал на столь пафосное заявление скифа:
– А что всё? Что, собственно говоря, ты делаешь? Проводишь Экклесию или заседание Буле? А может, готовишь закон о скифских параситах или заседаешь в Ареопаге? Или на худой конец выращиваешь овощи или пасёшь коз? Единственное, что ты делаешь, так это морочишь голову Солону и отвлекаешь его от важной работы!
– Беседы с мудрецами – это моя любимая стихия! – перебив Главкона, гордо воскликнул скиф. – Не то, что у тебя беседы с сомнительными лицами.
Главкон, снисходительно посмотрев на Анахарсиса, ответил:
– Вот я, иное дело. Никогда законодателю не мешаю, никогда его не отвлекаю, и даже, как могу, помогаю. Я служу отечеству и способствую всечеловеческому делу любви. Правда, ничего не делаю своевременно, а как удаётся. Но я никогда ничего об этом не говорю. А если что-то делаю своевременно, то тоже молчу. И, в конечном итоге, успеваю справляться со всеми делами. А ты? То и дело, что только говоришь и говоришь, жужжишь и зудишь, немного молчишь, а потом снова болтаешь. Рассуждал бы по делу! Говорил бы хоть привлекательно и красиво, как Солон или Феспид! На худой конец, как я. А если не умеешь управлять своими словами, то лучше молчи. Будто не знаешь, что хорошее молчание, лучше плохого разговора.
Анахарсис тут же бурно отвечал Главкону:
– Да, у вас в Аттике изысканная речь, не то, что у нас, в скифских степях. Что и говорить – аттицизм! Такое ощущение, что говорящие ионийцы наслаждаются речью. Мне же аттицизм не свойственен. Я не Солон, и даже не Феспид, хоть и с аттическими корнями. Я – скиф! Но и ты, Главкон не страдаешь аттицизмом. Вот разве что Мисон таков, хоть и критянин.
Тут следует заметить, что лексикон Анахарсиса был весьма и весьма своеобразным. Эллинский язык он знал, но далеко не в совершенстве. Иногда смешивал слова ионийского, эолийского и дорийского наречий. От волнения или в пылу страстного спора ему явно не хватало эллинского словарного запаса. И он тут же вставлял скифские слова. Будто бы для усиления значимости сказанного или для красоты, а потом пытался перевести их на ионийское наречие, если удавалось. Нередко из его уст звучали смешанные скифско-эллинские термины, которые афинянам были непонятны, но Анахарсиса это сильно не задевало. Он даже гордился происходящим, полагая, что таким образом развивает и обогащает скифский язык, а заодно и эллинский. Для возвышенного пафоса он мог использовать известные ему слова египетского, лидийского, финикийского и других языков. Хотя ни одним из них он не владел совершенно. Но для тех, кто впервые с ним сталкивался, или вовсе его не знал, он вполне мог сойти за уважаемого полиглота. Если кто-то из окружения Солона упрекал его в этом, то он, уверенно, отвечал, что владеть многими языками не есть великое благо. И это вовсе не показатель умственного развития. Много знать, вовсе не означает быть умным, тем более мудрым. Мужам, которые упрекали его в незнании египетского или финикийского языков, он отвечал, что не является торговцем, которым такие языки знать необходимо. Иным отвечал, что и они тоже много чего не знают, например, скифского языка. Главкону, часто укорявшему его в недостаточном знании ионийского наречия, он вызывающе отвечал, что тот вовсе не владеет скифским языком. А ещё Главкон не знает финикийского, египетского, иудейского, лидийского, аккадского, персидского языков. Для смотрителя диктериона такое совершенно недопустимо. Он обязан их знать в силу особенностей своей работы. Но самое главное не то, как говоришь, а какие слова произносишь, постоянно утверждал Анахарсис, когда намекали на его акцент. Смотрителю диктерионов он отвечал, что самый совершенный язык тот, который индивида делает хорошим человеком. Это язык высокого этоса, добродетели, человечности, гостеприимства. Главкон тут же прямым текстом говорил ему, что для скифа, эллинский язык он знает хорошо, даже слишком хорошо. Но для мудреца такое знание языка вовсе не годится. Ведь язык есть инструмент и средство мудрости. Анахарсис резко возражал ему, полагая, что мудрость состоит не столько в языке, сколько в мыслях, намерениях и действиях. Мудрость можно изложить и с помощью письма.
– Клянусь Афиной, Анахарсис, ты приехал к нам не учиться мудрости, а учить ей нас! – возмущался порой Главкон. – К тому же, видно, хочешь похитить у нас афинскую мудрость, а взамен навязать скифскую глупость.
– Я прибыл учиться не к тебе, а к Солону, – возражал, донимая Главкона, скиф. – Да, именно к нему. И забирать у тебя ничего не собираюсь, так как брать нечего. Что касается Солоновой мудрости, то не бойся, её хватит на всех разумных индивидов.
В моменты возникавшего между Анахарсисом и Главконом напряжения, разозлившись, бывший стратег, кричал царевичу, что нехорошо быть скифом, но лучше быть эллином. На что тот возражал, что в душе он эллин, даже больше, чем Главкон. Они яростно спорили, ругались и тут же мирились, а потом вновь спорили и снова мирились. Скиф, отстаивая собственное мнение, порой напоминал неврастеника. На что ему не раз указывал Главкон. Анахарсис не раз упрекал Главкона в том, что тот хочет стать афинским Ментором по отношению к нему.
– Во всяком случае, твои речи, если их можно назвать речами, и возражения, если их можно назвать возражениями, носят менторский характер.
Главкон не знал или забыл, кто такой Ментор, тогда Анахарсис гордо напоминал ему, что речь идёт о воспитателе Телемаха – сына Одиссея и Пенелопы. Он воспитывал его двадцать лет. И делал это жёстко, требовательно, строго. Телемах побаивался даже его голоса.
У Анахарсиса, несмотря на то, что он был излишне откровенным, прямолинейным, дотошным, иногда даже дерзким, сложились хорошие отношения почти со всем Солоновым окружением, со всеми эллинами. Он притягивал к себе всех людей, словно камень из Магнезии металлические предметы. Эллины любили с ним пошутить на разные темы, посудачить о Скифии и скифах, поспорить на темы нравственности, политики, экономики, семьи, любые другие темы. Не было таких вопросов, которых бы он избегал. И даже там, где, казалось бы, он был полным чужаком, невежей, он готов был ввязаться в полемику. Скиф научился ставить собеседникам трудные и весьма утончённые вопросы. Он сам всегда искал на них ответы, при этом стремился, чтобы и его собеседники отвечали по-существу. Едва ли не при каждой встрече он старался вовлечь в дискуссию Солона, Мисона, Феспида, Дропида, Главкона, Сусариона. Он полемизировал едва ли не с каждым встречным, если имелся для этого подходящий повод, а если его не было, то сам его находил. Разумеется, дискуссии с Феспидом, Мисоном и особенно Солоном давались ему тяжело. Эти мужи были не только мастерами слова, но и демиургами утончённой мысли. Но скиф не отчаивался, если его стихийные аргументы разбивались о прочные берега их логоса. Он настойчиво искал новые пути и подходы, усиливал аргументы. Если их не хватало, то он продолжал поиск более новых и более убедительных средств. Находя, тут же пускал их в ход. Солон как-то в присутствии многих мужей назвал царевича мастером меткой фразы. А чуть позже и вовсе величал его эристом, то есть мастером, умеющим искусно вести полемику, способным быть человеком рассудительным. Иногда законодатель и вовсе ставил его в пример всем остальным, уповая на то, что Анахарсис умеет быстро учиться, а также переносить все невзгоды Судьбы, преодолевать превратности и тяготы жизни, что к ней он относится разумно, вдумчиво, основательно, последовательно. Разумеется, мудрец делал это не только в силу заслуг скифа, но ещё и по причине того, чтобы словесно поощрить и поддержать его в стремлении глубоко изучить всё эллинское. То, что Мисону и Феспиду давалось легко и быстро (ведь они эллины) Анахарсису давалось непросто; всё-таки он скиф и у него наполовину скифское мышление. Правда, Феспиду не очень нравилось, когда превозносили царевича. Он дал всем понять, что в вопросах поэзии Анахарсис не эрист, а всего лишь флиак. То есть исполнитель шуток, фарсов, не более того. До уровня эллинского поэта Анахарсису никогда не приблизиться: «Поэзия ему – совсем не по уму», – так резко откликнулся молодой поэт. За глаза Феспид иногда называл Анахарсиса грубым сатиром. И тот, между прочим, знал об этом. А посему он дал себе зарок в совершенстве овладеть эллинской поэзией и даже более того – самому стать хорошим поэтом. Он мечтал написать скифскую «Илиаду», или «Скифию», которая восславила бы его народ навека.
Многие афиняне о нём говорили, что он весьма заметное явление – скифский феномен. Царевич был находчивым, открытым для всех, хотя и не всегда понятным и понятым. Да это и не важно. Что не делай, что не говори, а скифские корни давали о себе знать.
Вместе с тем, в Солоновом окружении был человек, которого скиф невзлюбил и старался обходить его стороной. Этим человеком был не кто иной, как Писистрат. Скиф обладал феноменальным природным чутьём. И, между прочим, он первым увидел в Писистрате опасного для Афин человека. На сей счёт у него не возникало никаких сомнений. Он ему не доверял и не верил, стремился избегать с ним основательного и тем более откровенного дружеского общения.
Писистрат как-то стал набиваться ему в друзья:
– Я хочу стать тебе близким другом, царевич, – пафосно молвил он. – Как ты на это смотришь?
– Я на это никак не смотрю. Друг у меня уже есть. И такого друга нет ни у кого. Это – Солон.
– Так не стоит ли завести второго друга. Два всегда лучше одного.
– Не соглашусь с тобой в этом вопросе. Вот, например, два удара по голове всегда хуже, чем один. Или два года тюрьмы, никак не лучше одного. Или купить овцу за две драхмы накладней, чем за одну. Так что, Писистрат, имей в виду, лучше иметь одного друга стоящего, чем многих не стоящих. Между прочим, у меня есть и второй стоящий друг – это Мисон. Таких друзей не заменят и сто Писистратов.
Будущий тиран почему-то завидовал Анахарсису. Скорее всего, потому, что тот царевич. Не важно, что скифский, но всё же царевич. А вот он, Писистрат – обычный гражданин, хотя небольшие остатки царской крови имеются и у него. Ведь Кодр и его далёкий предок, а не только предок Солона. Писистрату не нравилось то, что скиф крепко сдружился с афинским законодателем, был дружен с Феспидом, а также со многими достойными людьми Аттики. А те почему-то Писистрата не замечали и очень близко к себе не подпускали.
Что интересно – невзлюбил Писистрата и Мисон, исключительно сдержанный и на редкость терпелевый человек. Он невзлюбил будущего тирана ещё больше, нежели Анахарсис. Между ними периодически происходили размолвки. Просто поразительно, что оба ученика Солона предугадали в его двоюродном брате будущую опасность для афинской демократии, опасность для самого учителя, его идей и практических дел. Солон же, будучи человеком толерантным, убеждал и Анахарсиса, и Мисона в том, что Писисират ещё молод и наивен, и что есть надежда на его исправление в будущем. Да и не такой он плохой, как это кое-кому кажется. Возможно, время его исправит или хотя бы поправит. Мисон же намекал Солону, что как бы в будущем не пришлось бежать или скрываться от такого человека, как Писистрат. Конечно, глубоко в душе законодатель тоже предчувствовал недоброе по отношению к нему, хоть и не явно. Он никак и ничем не мог подобное объяснить. Но такого рода предчувствия имелись.
Анахарсис стремился усвоить все афинские законы. И, как оказалось, для него подобное было непростой задачей. Ему иной раз представлялось, что некоторые законы лишние, что их невероятно много. Что они напоминают цепи, которыми сковывают людей. Солон терпеливо и настойчиво втолковывал ему смысл каждого закона. Однажды, возмутившись суждением Анахарсиса, он резко возразил:
– Цепи закона могут быть как самыми страшными, так и самыми приятными. Всё зависит от существа конкретного закона, его глубинного смысла и предназначения. Не каждому дано, это сразу увидеть и наспех прочувствовать. Если кому-то кажется, что он в цепях закона, то он должен знать, что лучше быть в цепях закона, нежели в просторах мнимого хорошего беззакония и необузданной свободы, при которой ты не знаешь, что ждёт тебя за поворотом дороги и даже у порога твоего дома.
Довольно часто выезжая за пределы Афин, Солон приглашал с собой в поездку Анахарсиса, иногда брал и Мисона. Они, разумеется, не участвовали в деловых встречах законодателя с правителями других государств, не давали советов по политическим вопросам, если их об этом не спрашивали. Когда же законодатель их об этом просил, то они высказывали свои соображения с большим желанием. Анахарсис, по привычке, бурно и громко излагал свои взгляды. Мисон был сдержаннее, скромнее и нередко отвечал:
– Солон, разве после тебя можно найти лучший путь решения вопроса? Я скорее уведу тебя от истины, или введу в заблуждение, нежели дам деловой совет.
Но законодатель не обращал внимания на такие причитания. Он знал, что любой человек способен найти что-то дельное, неповторимое, ценное и полезное. Надо всего лишь дать ему возможность поискать такое и своевременно высказаться. Необходимо проявить в этом деле большое терпение. Мисон, разумеется, предлагал советы, если сам был прочно убеждён в их полезности. Лишнего и непродуманного он никогда не советовал и даже не пытался подобное делать. Он всегда старался быть предельно кратким. Не потому ли Солон часто называл Мисона «лаконцем мысли». Анахарсиса порой называл «скифским соловьём», изредка «орлом степей». Мисон всегда старался оставаться незамеченным. Образно говоря, находился в тени. Анахарсис, наоборот, везде стремился быть увиденным, услышанным, понятым и незабываемым. Его подмывало начертать на чём-нибудь – «тут был Анахарсис».
Анахарсис по сравнению с Мисоном был нетерпелив, суетлив, излишне поспешен. Ему хотелось постичь всё и немедля. Его острый язык порой опережал мысль, а иногда усердствовал и безо всякой мысли, о чём он не раз позже жалел. Но, что делать, он таков, каков он есть. Видимо иного Анахарсиса не могло быть. Чего Анахарсис от всех не скрывал, так это того, что он является учеником Солона и скифом. Более того, он иногда, изрядно приняв вина, требовал, чтобы его по праву считали первым учеником афинского мудреца. Мисон, Феспид и прочие – это второй ряд, а он, скифский царевич – в первом ряду Солоновых учеников. Был ли в этом какой-то скрытый замысел – сказать трудно. Но этому утверждению он был верен до последнего часа своей жизни.
Мисон был человеком величайшего терпения. Его выдержке и хладнокровию мог бы позавидовать сам Зевс, а не то, чтобы Анахарсис или даже Солон. На всех, кто общался с ним, он производил неизгладимо сильное впечатление. Можно сказать, что критянин беспрестанно и неизменно пребывал в состоянии атараксии, демонстрируя невозмутимость, спокойствие духа, терпение, сдержанность и благоразумие. Со временем многим казалось, что иным образом Мисон и не умеет себя вести. Сам же он утверждал, что стремящийся к мудрости обязан себя вести именно так. Раздражительность, нетерпеливость, распущенность, страх, бесстыдство, наглость боялись Мисона. Торопливость, чванство, зависть, трусость, неуважительность, подлость – так же напрочь обошли его стороной. Всем бедам, выпорхнувшим из ящика Пандоры, Мисон был не по зубам. Он словно бы не замечал их, а они над ним не обрели ни малейшей власти; покружили, пожужжали, поскрипели, возмутились его спокойствием и подались прочь. «Мисон – Бог спокойствия», – как-то сказал о нём Анахарсис.
Критянин никогда не спешил. Он всё и всегда делал соразмеренно, спокойно, основательно, без суеты. Его способность не торопиться, не спешить, при этом успевать делать многое, часто выводила из себя Анахарсиса, который как раз наоборот всегда спешил и призывал к этому же Мисона.
– Критянин, – взывал он к нему, – жизнь проходит, а ты не спешишь ею насладиться. Так и состаришься быстро, не познав достаточного, или хотя бы необходимого. Медлительность убивает в человеке все творческие силы!
– Скорее наоборот, любезный скиф, – отвечал Мисон царевичу, – состаривается и умирает быстро тот индивид, кто слишком резво спешит, не размышляет, не оглядывается назад, основательно не размышляет, и ничего толком не делает. Такой человек не учится, не работает, не отдыхает, не познаёт, не наслаждается познанным, не осмысливает жизнь. Вот если ты торопишься, а я не спешу, то не думай, что ты лучше поешь, лучше выспишься, надышишься свежим воздухом, основательней согреешься, прочтёшь больше манускриптов, дольше проживёшь, или больше времени пообщаешься с Солоном. Нет и нет! Собственно говоря, ты ничего, Анахарсис, толком не сделаешь, а только создашь видимость сделанного. Тем самым лишь обманешь себя. Спешка – есть обман или видимость работы и самой жизни. А по сему – не торопись! Не спеши! Делай всё соразмерно и своевременно. Делай всё по-делу и для дела, то есть для жизни. И, как говорит наш учитель – знай меру во всём. Не будь безмерщиком! Ибо незнание меры может погубить человека. Впрочем, говорю я это не для тебя, а для себя. Себе напоминаю о важных вещах, а то ведь хорошее и разумное, к сожалению, забывается.
Иным критикам казалось, что Мисон находится в состоянии апатии, то есть полнейшего бессердечия, равнодушия и безразличия по отношению к тому, что происходит вокруг. Кто-то даже сказал, что у него отсутствует явный интерес к жизни. Но это было ошибочное мнение, мнение тех людей, которые его мало знали, а то и вовсе с ним не были знакомы. Атараксия вовсе не апатия. Даже слыша такие оценки, Мисон ни на кого не обижался, дескать, невелика беда, поговорят и успокоятся. А со временем сами поймут, что к чему и кто есть кто. Только время лечит и меняет людей. Оно же исправляет оплошности и поспешные решения. «Человек – камень», – так о Мисоне в очередной раз отозвался Анахарсис, – «его ничем не прошибёшь».
Мисон умел ждать, как никто другой. Если бы ему кто-то сказал, пусть даже шутя, в ответ на его просьбу, что подожди десять лет – потом получишь искомое, он спокойно бы ответил: «Десять, так десять». А ради Солона он мог ждать, терпеть и полвека. Он способен был часами и днями молча слушать афинского мудреца, ни разу не перебивая его. Да что там Солона – это ведь учитель, и слушать его – долг прилежного ученика. Мисон с невиданным спокойствием мог выслушать Анахарсиса, Главкона, Феспида, Аристодора, Писистрата, простого ремесленника, пастуха, рыбака, раба, любую женщину, малолетнего ребёнка. Выслушать, о чём бы они там не говорили. И не просто выслушать, а терпеливо, основательно и благоразумно разобраться в том, что беспокоит и тревожит его собеседника, почему это происходит и чем ему можно помочь. Выслушать царевича или смотрителя диктерионов было сравни геройству, но только не для него. Казалось, щедрая Мисонова душа готова была обнять весь мир, доброжелательно улыбнуться ему, сделать добро каждому встречному, посочувствовать любому несчастному или порадоваться счастью других.
Помимо того он вёл воистину сдержанный образ жизни, скромно питался, иногда мог голодать по нескольку дней. Мало пил вина, совершенно не общался с женщинами, полагая, что мудрецу лучше обходить их стороной. «Либо мудрость, либо женщины», – говорил он самому себе, Анахарсису и Главкону, которые периодически заостряли внимание на этом щепетильном вопросе. Впрочем, кто в Элладе из нормальных мужей не болтал на такую тему. А он без единого сомнения отдавал предпочтение первому, то есть – мудрости, и на словах, и на деле.
Главкон, став знаменитым порностратегом, исподтишка подтрунивал над критянином, особенно по поводу женского вопроса. Говорил, что женщин критянин не ценит лишь по той причине, что не видит их подлинной красоты и не ощущает на себе их тепла и ласки. Он постоянно провоцировал Мисона, приглашая его на «мудрые» дела и эротические встречи в диктерион. Тот спокойно отказывался, уповая на отсутствие там всякой мудрости. Главкон настаивал, утверждая, что если уж там нет мудрых мыслей, то мудрые чувства несомненно имеются. Но мудрый человек и в диктерионе найдёт мудрость, надо только её хорошо поискать.
– В таком случае, почему же ты за многие годы не нашёл её там? – возражал он Главкону. – Ты давно должен был бы стать самым мудрым во всей Элладе, опередив и Солона, и Фалеса, и многих других в деле поиска мудрости и добродетели.
Главкон настаивал на том, что любовь – это божественное явление. Не случайно ей покровительствуют и Эрос, и Афродита, да и сам Зевс славен любовными приключениями.
– Не мог же Эрос, который беспощаден ко всем, забыть о тебе, – упрекал он критянина.
Мисон же отвечал, что из множества богов ему ближе всех Афина, Гестия и Аполлон. «А с Эросом я, видимо, разминулся, пойдя по другой улице», – отшучивался он. А затем вполне серьёзно убеждал порностратега в том, что он не эротоман, и что Эрос, при всём уважении к нему, не является для Мисона ни братом, ни другом, ни даже попутчиком.
Главкон не знал, чем возразить собеседнику и сразу же переводил разговор на другую тему.
С этим назойливым вопросом, то есть посещением храма любви, Главкон и в шутку, и в серьёз не единожды приставал и к Анахарсису. Убеждал его в том, что не может быть человек мудрецом и тем более царевичем, не разобравшись в женщинах и тайнах любви. Ты не будешь знать, что и как, зачем и почему, не сможешь ничего ответить людям, если они тебя об этом спросят. Хорош мудрец, не побывавший в афинском диктерионе! Это всё равно, что не побывать в народном собрании или ни разу не посетить Гелиэю. Тем самым ты опозоришь себя, поставишь в неловкое положение своего учителя, не рассказавшего тебе о самом главном в жизни. Ну и, наконец, ты опозоришь Афины, самый любвеобильный город мира, и меня смотрителя этого тонкого дела.
– Представляешь, каково будет всем нам, – иронизировал смотритель нравственности.
Скиф долго отнекивался, дескать, сейчас не до того. Дела мудрости забирают всё время и силы, к тому же не совсем ясно, что там за женщины. А ещё шутя утверждал, что его высокое царское положение к подобному не располагает. Принцесс там, очевидно, нет. Тем не менее, задуманная авантюра Главкону удалась; он заманил скифа в храм любви и отдал его на растерзание самым опытным порно. Анахарсис провёл-таки целую ночь в объятиях Пчелки и Мурки, после чего долго не мог прийти в себя. Но увидев порностратега возмущённо воскликнул:
– В твоём диктерионе можно потерять всё, не приобретя ничего!
Видимо, он имел в виду значительные денежные траты и полное отсутствие там мудрых идей.
В свою очередь Главкон, довольный свершившимся, загадочно ответил ему:
– Как это так? Видимо, за одну точь горизонты твоего познания сильно не расширились. Надо бы побывать ещё несколько раз. Тогда и мудрость к тебе придет, и Эрос станет твоим другом.
Тем не менее царевич время от времени, явно или тайком, посещал подведомственные Главкону заведения. Царевич не царевич, скиф не скиф, мудрец не мудрец, но мужская природа требовала своего. И бороться с этим было крайне сложно, даже столь сильному человеку, как Анахарсис. Анахарсис ведь не Мисон. Тот по своему складу – человек-гора, огромная скала, а скиф всего лишь небольшой камень, который может под небольшим напором треснуть, сдвинуться с места, подпрыгнуть и покатиться по наклонной в разные стороны. Об отношении Мисона к женщинам Анахарсис размышлял многократно, но он так и не понял, кто кого обманул. То ли критянин обманул природу, то ли она его ввела в заблуждение, скрыв от него женские чары.
Между прочим, на этой почве, то есть почве любви и проституции, ученики Солона неоднократно спорили. Вернее, спорил скиф, а критянин, как ни в чём не бывало, спокойно отражал его словестные нападки. Когда Анахарсис никак не мог переубедить Мисона, то кричал ему, что тот глухой и слепой и что у него нет сердца. Он, конечно, знал, что Мисона этим никак не проймёшь. И тем не менее, расшатывал неприступную крепость его характера, надеясь, что в ней со временем появятся небольшие бреши. Что интересно, так это то, что Мисон всё прекрасно понимал и совершенно беспристрастно отвечал ему:
– Я не глухой и не слепой, и сердце моё открыто для всех. Но кроме прочего у меня ещё имеется и разум. И он твердит мне: «Иди выбранным путём. Иди во чтобы-то не стало. Знай себе и всему цену. Будь умеренным во всём. Не поддавайся соблазнам». И я иду своим путём. Я не соблазняюсь на мелочи и тем более не соблазняюсь на значимое. Ибо один соблазн тащит за собой второй, а второй – неизменно третий. И так без конца.
– Между прочим, – продолжал он, – разум тоже должен быть чувствительным, а сердце – разумно. Это продлит человеческую жизнь. Тут, – Мисон слегка постучал себя в грудь, – столкнулись извечно непримиримые силы. Тут происходит постоянная, часто незримая, внутричеловеческая война – война сердца, чувств и разума. Победитель никогда неизвестен. Но как опытный «стратег» могу сказать – не бойся разума, Анахарсис, бойся сердца. Знай, что оно пристрастно, часто провоцирует нас, что оно умирает раньше разума и тащит его за собой в никуда. Разум же, наоборот, – сдержан, устойчив; он бережёт и щадит сердце. А посему разум не должен спать, ему следует беспрестанно работать, пахать ниву человеческой жизни. Сердце должно чаще отдыхать, а разум творить. Сердце не должно превышать своих полномочий; разум должен указать ему его истинное место!
– Я не согласен с твоими суждениями, – восклицал Анахарсис, хотя в глубине души соглашался, но внешне не хотел этого признавать.
Мисон догадывался об этом и весьма сдержанно отвечал:
– Ну что ж, каждый живёт сообразно своему сердцу и разуму, сообразно собственным представлениям о добродетели.
– Плохо, когда разум подавляет сердце и добродетель, – обидчиво говорил скиф.
– А ещё хуже, если сердце, обуреваемое сомнительными добродетелями, отстаёт от разума и знаний, – убеждал скифа критянин.
Анахарсис иногда любил подшутить над Мисоном и Главконом. Его шутки были разными – от умных, утончённых, до грубых, «скифских», как называл их Мисон. Однажды критянин с утра пораньше зашёл к скифу, чтобы пригласить его с собой в поездку в Милет. Анахарсис ещё с вечера узнал от Солона о том, что Мисон собирается подобное сделать. Когда Мисон вошёл в дом, Анахарсис совершенно голый лежал в постели, положив одну руку на уста, а другую на мужское достоинство. Вошедший сильно удивился и воскликнул:
– Ты чем занимаешься днём белым, у тебя, что нет дел?
– Я как раз занимаюсь важными делами. Готовлюсь к поездке в Милет. Вот хотел и тебя пригласить. Отправишься со мной? Фалес приглашал.
– Так при чём здесь это? – Мисон показал на него рукой. – И Фалес тут при чём?
– Ах, это! – ответил, смеясь Анахарсис, посмотрев себе ниже пояса – Я учусь сдерживать себя как Фалес. А ещё я хочу, чтобы ты понял. Мудрец должен владеть всем – и удовольствиями, и языком, и всем остальным. Но языком больше всего, а потом и остальным. Тебе же, Мисон, я скажу так:– Обуздывай язык, чрево, уд. Всегда в жизни пригодится!
– Да я уже давно обуздал! – смеясь, ответил Мисон, – надеюсь, и ты сможешь добиться подобного.
– Вот пробую, – тоже смеясь, произнёс Анахарсис, но пока не получается.
– Тогда по поводу языка обратись к Солону, а по поводу удовольствий – к Главкону. Они уж точно помогут тебе, особенно порностратег.
Разговоры и споры такого рода были частыми. Спор однажды принял такой страстный характер и зашёл так далеко, что, не найдя словесного аргумента, Анахарсис ненароком, сам того не желая, толкнул Мисона рукой. Он даже этого не заметил, но когда понял, что произошло, то растерялся и не знал, как быть. Мисон, посмотрев на него как на провинившегося ребёнка, тут же заметил:
– Мудрствующие и стремящиеся к мудрости не должны опускаться до рукоприкладства. В их распоряжении множество иных надёжных средств. Руки – это то, что ниже всех аргументов, после всех аргументов и вне аргументов. Руки предназначены для вещей и коней, а не для унижения людей. Они даны для того, чтобы пахать и сеять, собирать урожай, на худой конец поедать собранное с полей. И вообще, нельзя махать руками. Руками машут те, кто ни на что уже не способен. Так что, Анахарсис, не думай о себе так плохо. Тот, кто о себе думает плохо, тот так же думает и о других.
Да-да, сам Мисон никогда не размахивал руками. А для мудрых разговоров ему вполне доставало ума и языка. Если бы он применял ещё силу, то кто бы с ним стал разговаривать, тем более спорить. Разве что только Солон, который на равных мог посостязаться с критянином в силовых упражнениях.
Анахарсис шутливо утверждал, что Мисону не присущи любовь и ненависть, страсти и ощущения, страдания и наслаждения, радость и печаль, день и ночь, и что даже тень и свет он различает плохо. Мисон и вправду мог выдержать неистовые крики в свой адрес, любой агрессивный напор со стороны оппонентов, и даже такой, который содержал клевету, грязь, грубость, хамство, бесстыдство. Его невероятная выдержка, отсутствие робости часто выводили из себя собеседников; иных доводили до истерии. Выдержку и спокойствие, наряду с мыслительными добродетелями, знаниями и верными суждениями Мисон рассматривал как главные лекарства и оружие мудрствующего человека по отношению к другим. Будучи человеком хорошего внутреннего настроения, критянин никогда прилюдно не смеялся. Даже улыбка на его лице была редчайшим гостем. Мудрствующий критянин знал, что смех является мощным оружием, способным обидеть собеседника или случайного прохожего. Однажды Анахарсис застал его смеющимся наедине с собой, причём смеющимся громко, весело, радостно. Скиф был удивлён, поражён и даже напуган происходящим. Он ведь никогда не видел Мисона смеющимся и сразу же подумал, не случилось ли с критянином чего-то болезненного. Вдруг он помешался умом?
– Ты чего смеёшься? – удивлённо спросил царевич. – Кругом ведь никого нет!
– Как раз, поэтому и смеюсь, – улыбаясь, ответил Мисон. – Если смеяться при людях, то они могут подумать, что я насмехаюсь над ними. Смеяться над людьми, так же, как и оскорблять их, – негоже. Смех, Анахарсис, есть острое оружие. А оружия, как известно, многие боятся. Им нельзя бессмысленно размахивать.
Мисон не любил болтунов, лжецов, бездельников, параситов, ловеласов, хамов, жуликов, наглецов. Он никогда им не верил и не доверял, и всегда чётко и назидательно отвечал: «Нужно исследовать не дела по словам, а слова по делам, ибо не дела совершаются ради слов, а слова – ради дел».
Иначе говоря, не надо ничего во всеуслышание рассказывать о своих успехах и заслугах – лучше покажи их. И то, если они кому-то интересны. Одно хорошее дело может заменить тысячи тысяч неубедительных хвалебных слов. Необходимо приучать себя к делам, добрым и полезным делам, а не рассуждениям о них. Хотя, разумеется, и рассуждения о полезных делах тоже имеют смысл. Когда Анахарсис возражал ему по этому поводу, дескать, большие дела сразу не делаются, Мисон тут же предлагал ему делать их постепенно. Но обязательно делать. Можно творить и малые дела, главное – дела полезные, добрые.
Как-то Анахарсис спросил Мисона, кого и чего он боится. Тот с большим удивлением посмотрел на скифа и преспокойно ответил:
– Что значит бояться? Я не знаю боязни. Ко всем и ко всему я отношусь спокойно, нормально. Если я никого не боюсь, то и меня никто не должен бояться. Хорошие люди не должны бояться друг друга.
Мисон никогда бездумно не делал что-либо «вопреки» или «за», так сказать, заодно с кем-либо или вопреки кому-то. Все его действия и слова были по-существу, в силу необходимости, продуманности, осознанности. Его собственной продуманности и осознанности. Если изредка случалось так, что кто-то из стариков или молодых мужей попрекал его в чём-то, то он сдержанно объяснял – дескать, одни критикуют меня потому, что слишком стары, а другие – потому, что слишком молоды. А вот мужи среднего возраста молчат, следовательно, соглашаются со мною. Мисон крайне не любил стяжателей, стяжателей денег и стяжателей власти. Он был уверен, что такие люди ради денег и власти могут предать человеческие идеалы, предать богов, родину, родителей, друзей и даже самих себя.
Он никогда не напрашивался в гости, не рвался на пиры, не стремился на званые и незваные обеды, различного рода празднества. Даже участие в спорах и в поиске истинных ответов на многие вопросы он принимал тогда, когда его призывали к этому. Его, конечно, не надо было уговаривать, и упрашивать по пять раз, напоминать о каких-то просьбах, присылать за ним посыльных. Достаточно было произнести один раз, что Солон ждёт его вечером у себя дома, и Мисон был тут как тут.
Мисон был готов к любым поворотам в жизни, будь они радостными или огорчительными. Он многое предчувствовал и предугадывал. Кто-то даже назвал его афинским оракулом. Но делал он свои предположения сдержанно, ненавязчиво, даже скрытно. Основательное чувство времени и надвигающихся перемен, видимо, были обусловлены его высокой образованностью и глубиною знаний. Он всегда, что называется, готовил «сани летом, а телегу зимой».
Мисон был убеждён в том, что следует всё делать своевременно и загодя, делать основательно, добротно, без спешки.
Критянин обладал недюжинной телесной силой. Он запросто, одной рукой, мог поднять тяжёлый плуг или колесницу. Спокойно удерживал буйствующего жеребца, мог справиться с бешеным быком. Поговаривали, что в молодости он побеждал на каких-то играх. На каких играх именно – точно, никто не знал, а сам он не распространялся о собственных победах, считая главной – победу над собой. Когда кто-либо восхвалял его силу, он тут же отвечал:
– Сильных много, мудрых мало. Сила нужна коню, а человеку нужен ум, чтобы покорять силу.
Если его силу продолжали восхвалять, то он вновь отвечал:
– Человеческая сила только тогда имеет вес, если она используется по назначению. Человек не бык – напрасно тратить силу не должен.
Мисон был убеждён, что сильные мужи должны быть добродетельными. Сила, помноженная на добродетель, – устанавливает справедливость, так размышлял он.
Анахарсис как-то невзначай сказал ему:
– Даже самый слабый воин может стать героем. А сильный мудрец может стать героем?
– Слабый воин не станет героем, ибо эллинские герои – это дети богов и смертных. А они слабыми не бывают. Мудрствование преимущественно удел смертных. В каком-то смысле это тоже героизм. Но героизм особого рода, в ходе которого не убивают, не калечат, а наоборот из мертвецов делают живых, и не просто живых, но и здоровых. Слепым – возвращают зрение, немым – язык, заблудшим – указывают на правильную дорогу жизни. У мудреца поле битвы огромно, намного больше, нежели у героев. На этом поле всегда стоит несметная армия противников. И мудрствующий часто вступает в битву один. Один на один с армией невежества и тьмы. Очень многим хочется его побить, пленить, оклеветать, хотя бы обойти стороной. Мудрости боятся многие, ибо мудрость есть правда. А правду, особенно о себе, знать редко, кто желает. Многие желают знать правду о других.
– Вправе ли мудрец иметь пристрастия? – донимал Мисона Анахарсис.
– Об этом следует спрашивать самих мудрецов, а не их учеников. Но если тебя интересует моё мнение, то оно таково. Крайне редко встречаются люди без больших пристрастий. Мудрецы, похоже, из их числа. Они, разумеется, могут иметь пристрастия к кому-либо и чему-либо, но такие пристрастия не являются определяющими в их жизни. Их главные пристрастия – знание, истина, мудрость. Они способны их найти и постичь.
– Ты их нашёл? – иронизировал Анахарсис.
– Я же не сказал тебе, что являюсь мудрецом. Но истину ищу и мудрость почитаю.
Так отвечал Мисон Анахарсису, а тот задавал ему всё новые вопросы.
Рассказывать о себе Мисон не любил, если его даже об этом расспрашивали. А посему о нём, как при жизни, так и после смерти, ходили самые противоречивые слухи. Он любил, когда его просто звали Мисоном. Радовался, когда величали учеником Солона. Такое он почитал за большую честь. Не возражал, когда его называли критянином. И даже отзывался в тех случаях, когда его окликали лаконцем. Называть его оскорбительно или шутливо, как Анахарсиса или Эзопа, никто никогда не смел, даже Главкон. Не то, чтобы боялись его, а просто уважали и считали неприличным такое делать по отношению к нему.
За то, что он не афинянин, его иногда попрекали или при случае пытались поддеть. Как-то Писистрат будто-бы невзначай спросил его:
– Почему ты, Мисон, не учишься мудрости на Крите и не мудрствуешь там же?
– Я учусь мудрости там, – ответил он, – где мудрость в цене, где есть на неё спрос. На Крите сейчас его нет. И главное, там нет Солона, и даже нет Анахарсиса. А писистратов хватает.
Мисон очень любил поездки с Солоном по разным государствам Эллады, любил встречаться с Фалесом, Питтаком, Биантом, Клеобулом. Он был весьма дружен с Хилоном. Периандра и Эзопа – недолюбливал. К Анахарсису относился скептически, дескать, ещё не муж – перерастёт, переделается, отешется. Но чаще всего он общался именно с ним. На царевиче он оттачивал и шлифовал своё знаменитое спокойствие и внутреннюю сосредоточенность. В каком-то смысле скифа он рассматривал как младшего брата; по крайней мере, младшего собрата по учёбе. Анахарсис часто задавал ему коварные вопросы. Иногда по причине незнания ответов на них, а иногда злонамеренно, проверяя свою и Мисонову образованность. Он оттачивал своё остроумие на Мисоне. Чаще всего царевич пытался выведать представления критянина о мудрости.
Как-то Мисон сказал Анахарсису, что по поводу знания мудрости он затрудняется основательно рассуждать, ибо это удел Солона и других мудрецов. Единственное, что ему ведомо, так это то, что мудрецов и мудрости очень мало. Зато он хорошо знает, что такое глупость, поскольку видит и слышит её довольно часто, даже от знакомых ему людей. Анахарсис, подпрыгнув от неожиданности, буквально потребовал:
– Так расскажи и объясни, что это такое?! А то, все то и делают, что мудрствуют, а о глупости не говорит никто ни слова. Будь добр, объясни малообразованному скифу, что такое подлинная эллинская глупость?
– Что такое подлинная эллинская глупость, сказать затрудняюсь. Но обычная человеческая глупость мне известна, – ответил Мисон. – Глупость, как я её понимаю, есть такое положение дел, при котором нормальные вещи превращают в ненормальные, когда из прекрасного – делают безобразное, из здорового – больное. Глупость – это такое состояние, при котором люди молчат там, где следовало бы кричать, и кричат там, где надо молчать. Это постоянное стремление лезть не в свои дела и навязывать другим неверные решения, причём навязывать настойчиво, грубо и не по-делу. Глупость есть бессмысленное уничтожение человека и его здоровья. Безмерная жадность, безмерная и бессмысленная расточительность – сёстры глупости.
– Так, кто же в таком случае глупец? – резко спросил Анахарсис, видимо решив, что Мисон намекает на него.
– Глупость, как и мудрость, – явление всеобщее и повторяющееся. Она не является уделом одного человека или одного народа. Скорее большинство людей чаще поступают неразумно, нежели мудро. Глупый поступок может совершить любой человек в любое время.
– И Солон?! – удивлённо и возмущённо воскликнул скиф.
– Солон – образец мудреца, поэта, государственного деятеля и человека. Причём самый совершенный образец, достойный подражания для всех людей. Совершал ли Солон глупые поступки – мне не ведомо. Об этом спроси его самого. Но я не исключаю, что и он мог когда-то делать нечто подобное. Ведь он тоже человек. Во всяком случае, мне и тебе известны мудрецы, которые совершили глупых поступков не меньше, нежели мудрых. Тебе назвать их имена?
– Нет. Я догадываюсь, о ком ты говоришь. Это Периандр и Эзоп.
– Если верить эллинским мифам, то даже боги совершали неразумные поступки. Причём совершали их многократно.
Особенно запоминающейся была поездка Анахарсиса и Мисона в Дельфы. Солона пригласили туда как поэта, то есть как возможного участника Пифийских поэтических состязаний. Пригласили его и как выдающегося государственного деятеля, законодателя и как известнейшего мудреца. Солон взял с собой в эту поездку поэта Феспида, причём с явным умыслом – представлять Афины в поэтических состязаниях. Он уступил ему своё право на участие в играх. Пригласил нескольких молодых начинающих поэтов, чтобы окунуть их в великий поэтический мир, а также музыкантов для участия в состязаниях. В Пифийской делегации был и Главкон, по той причине, что он ещё ни разу не был в Дельфах. Оказался здесь и Писистрат, которого законодатель взял с собой по причине большой любви того к музыке и поэзии. Писистрат был несказанно рад своей поездке в столь священное место, каким являлись Дельфы. Дропид и несколько стражей оказались здесь на тот случай, если нападут разбойники или пираты.
– В дороге стражи нужны, – утверждал Солон, – пусть даже только для порядка или для отстрастки.
Наконец, после некоторых раздумий он дал добро на поездку с ним Мисону и Анахарсису. Те, разумеется, с благодарностью согласились. Ещё бы, побывать на священных Пифийских играх – дело величайшей чести для любого человека. Тем более побывать с Солоном – победителем этих игр.
Перед поездкой в Дельфы Анахарсис изучил всё, что относилось к истории этих игр. Мисон, будучи эллином, разумеется, о них многое знал.
Празднества проходили с огромным размахом. Начинались они музыкальными состязаниями. Вначале состязались кифаристы и кифареды, авледы и авлеты. Накал соревнований был высочайший. Афинянам удалось победить в конкурсе певцов-кифаредов. Лучшим был признан Феспид. Он же играл на кифаре, но победу отдали музыканту из Аркадии, хотя афинянин, к всеобщему удовольствию зрителей, играл превосходно. Видимо, судьи сочли, что две победы для одного участника, пусть даже и для такого талантливого, как Феспид, это слишком много. Соревнования авледистов выиграли мессенцы, авлетистов – местный музыкант из Локриды. Феспид как победитель получил лавровый венок и корзину яблок.
В этот же вечер по случаю победы Феспида был устроен пир. Вначале Солон произнёс хвалебное слово в адрес Феспида, затем все выпили за его победу и здоровье. Пили ещё за Афины, за Аттику, за Солона, за законы Солона. Анахарсис был очень аккуратен при употреблении вина и оказался единственным, кто не был изрядно выпившим.
На второй день состязались гимнасты и конники. И здесь афинянам удалось достичь успеха. Молодой наездник Полиодор выиграл состязания колесниц. И вновь вечером был устроен пир по случаю победы афинян. И на сей раз Анахарсис пил меньше всех.
На третий день проводились состязания в честь Диониса. Эти состязания в программу Пифийских игр не входили, но пользовались огромным интересом и популярностью как среди дельфийцев, так и всех гостей. Они проводились скорее ради увеселительных развлечений, и многие рассматривали их как упражнение в безумии. Участники этих состязаний выступали как частные лица, и их задача заключалась в том, чтобы выпить больше вина и не опьянеть. Солону показалось, что Анахарсис был вполне пригоден для таких состязаний. Тем более он заявил, что подобного рода состязания как раз для него. Но Анахарсис, скорее всего, пошутил. Каково же было удивление и разочарование всех афинян, когда скифский царевич быстрее всех выпил половину сосуда вина, свалился с ног и стал кричать на всю округу, что он якобы победил, и чтобы ему отдали приз победителя и увенчали лавровым венком. Царевич едва ли не подрался с местными стражами порядка, которые старались его утихомирить.
На следующий день, оправдываясь за свои вчерашние нелицеприятные действия перед афинянами, он произнёс следующее:
– Только теперь я понял, что первая чаша вина дарит наслаждение, вторая – делает пьющего пьяным, а третья – делает его вдобавок ко всему омерзительным и безумным. Вчера я был трижды омерзительным и трижды безумным.
Главкон подошёл к нему и в шутку поздравил с победой:
– Вчера, царевич, ты был истинно первым среди опьяневших. Твоя победа безусловна, великолепна и неподражаема. Она более яркая, нежели победы Феспида и Полиодора вместе взятые. Ты настоящий победитель! Жаль, что тебе не вручили лавровый венок. Но я постараюсь подобное исправить. По приезду в Афины я собственной рукой сделаю его из крапивы и лично одену на твою голову. Можешь не сомневаться и не переживать на сей счёт. К тому же, наконец-то, я увидел тебя в подлинном облике.
Анахарсис промолчал, но основательно задумался над тем, как бы не попасть под чары Диониса, то есть не стать пьяницей. Чтобы этого не произошло, необходимо чаще смотреть на пьяных. Они должны стать наглядным примером того, как не следует подобное делать.
Когда плыли обратно в Афины, Анахарсис вдруг спросил Главкона, какой толщины корабельные доски.
– Тебе-то зачем знать подобное, собрался строить корабль или займёшься распиливанием досок? – рассмеялся тот.
– Я хочу знать, насколько надёжен Солонов корабль.
Главкон улыбнулся и показал ему четыре пальца своей руки.
– Значит, мы плывём на четыре пальца от смерти? – завопил царевич.
Главкон и Солон рассмеялись, а потом объяснили скифу, что Солонов корабль надёжен. И рулевой кибернетик – он опытнейший мастер кораблевождения. Таких редко сыщешь, имеет двадцатилетний опыт мореплавания. Наконец, плывут они не так далеко от берега. В случае опасности можно будет спастись, спокойно доплыв до него.
– Спокойно доплывут те, кто умеет плавать, а я плаваю словно камень – погрузившись в воду, сразу иду ко дну. Гидрофобия у меня! – завопил он.
– Не бойся, Анахарсис, – убеждал его Солон, – мой корабль избороздил многие моря и ни разу не тонул. Двадцать лет он верно и надёжно служит мне и всем тем, кто плавает со мной.
– Знаешь, законодатель, какие корабли самые надёжные?
– Либо длинные – боевые, либо широкие – торговые, – пошутил Солон.
– Нет! – воскликнул Анахарсис. – Самые надёжные те, которые вытащены на берег! Корабли, лежащие на суше! А все остальные для меня угроза.
Все дружно посмеялись над словами скифского царевича. Но было видно, что по какой-то неизвестной всем причине, он стал побаиваться моря и воды. Раньше не так боялся; доплыл же сюда, в Элладу, из далёкой Скифии. Предстояло поработать над тем, чтобы у него подобный страх прошёл и Анахарсис полюбил водные просторы. Ведь это был самый быстрый, самый дешёвый, да и, пожалуй, самый надёжный путь передвижения. А если человек постоянно боится воды, то он прикован прозябать на одном месте. Главкон, как всегда, решил подшутить над царевичем, спросив его:
– Ты что, Анахарсис, пруд любишь больше, нежели море?
– Мой водоём – корыто с водой. На худой конец – пруд, в котором воды по колено, – ответил тот безо всякой иронии.
– Значит, ты моешься только до колен?
– Нет, я моюсь и выше, но при этом не плаваю.
– Как же был прав мой дед, – восхитился Главкон, – который утверждал, что боящийся моря возлюбит пруд, а боящийся пруда – обнимет корыто!
Следует заметить, что афиняне научили Анахарсиса плавать и со временем он делал подобное превосходно и даже полюбил морские водные просторы. Зато он перестал «плавать» в мудрых беседах, спорах, дискуссиях, и благодаря упорству, настойчивости, любви к знаниям, и мощному влиянию Солона, стал одним из самых известных, хоть и весьма противоречивых мудрецов своего времени. Об Анахарсисе и Мисоне знали многие эллины. Их приглашали к себе в гости мудрецы старшего поколения, правители, состоятельные граждане. С ними, особенно с Анахарсисом, было интересно, увлекательно, весело. Как утверждал Фалес: «с Анахарсисом не соскучишься».
Не менее пяти лет находился Анахарсис в Афинах, учась у Солона и у других афинян премудростям жизни и мудрости как таковой. Он многому научился. Солон считал его исключительно талантливым человеком, которому по плечу самые сложные дела. Затем он стал самостоятельно путешествовать по всей Элладе. Побывал несколько раз в родной Скифии, но на долго там не оставался. Вновь возвращался в Элладу. Чаще всего задерживался в Афинах. При этом нередко наведывался в Милет, Эфес, Приену, Дельфы, Линд. Он побывал также в Египте, Финикии и даже как-то его занесло в Вавилон. Но каким бы хорошим и интересным не был окружающий мир, его центром он считал Афины, а центром Афин – Солона. Именно здесь, по его мнению, имела место настоящая человеческая жизнь, и здесь было сосредоточие мудрости. Вот тут-то и располагается современный «Пуп Земли», а если точнее, то «Пуп мудрости».