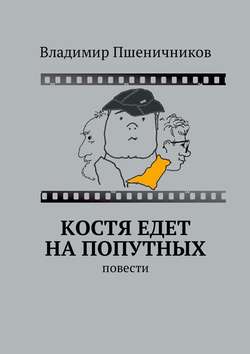Читать книгу Костя едет на попутных. Повести - Владимир Пшеничников - Страница 5
Текучий момент
Черты из тарпановской жизни
Отоваренная среда
Оглавление1
«Если ты, брат, ненароком усомнился в существовании Бога Живого, взгляни на Тарпановку, – начинает один из подручных. – Взгляни и возрадуйся: Бог-то ведь есть! А поколи Он есть, живым пребудет и сей разорённый, но не увядший натло уголок, сугубо хранящий и невостребованные силы, и чистые свои голоса. И час его не прошёл, а час великого посева ещё впереди».
Занятно. Да стоит ли приплетать Создателя там, где уместно хотя и менее возвышенное, зато более достоверное объяснение? Где одного взгляда по сторонам достаточно, чтобы прямо свидетельствовать: потому жива Тарпановка до сих пор, что в самые разорительные годы исхитрились сберечь животноводческую ферму. И благодарить тут надо всего лишь равно значительную удалённость от намеченных перспективных центров: не состоявшихся агрогородов и поселений, в которые, понагородив шлакобетонных комплексов, сгоняли скотину с ближайшей округи.
Тарпановская малая ферма – это, конечно, и коровы, и нагуливающий говядину молодняк, и сплочённые, как лесные братья, скотники, ну, а прежде них – это семь доярок, чьи шестеро мужей составляют половину тракторной бригады, а двое ребят – треть учеников местной школы. Из-за доярок тут и фельдшерица, к радости пенсионеров, содержится, и почти новенькое грузтакси бригаде выделили по их настоянию. А дороги зимой разве для почтовой связи и праздной езды расчищают? Конечно, нет – это чтобы молоко возить на сливной пункт, ну, а скот, хотя и значительно реже, – на убойный. И ферма, отвечая на заботу посильной отдачей, между прочим, давным-давно настигла вполне процветающие заграничные страны по производству молока на одну душу коренного населения, а теперь, возможно, и на решительный обгон пошла. Не то, чтобы коровы тут взялись молока больше отдавать, да коренное население, несмотря на общий успех, все же, что ни говори, а подтаивает, хотя и самым, в основном, естественным образом. Но хороши тут и общепринятые – поголовные – показатели, если время от времени, а верней всего, за первый, сугубо зимний квартал года привозят в Тарпановку переходящее знамя, и оно потом до самой просухи ночует на квартире у заведующего или бригадира, украшая и без того красную обстановку довольно просторных горниц.
Да, ферма – это и есть та опорная ось, на которой держится вся тарпановская жизнь и совершается её коловращение. А если кому, скажем, за хлебопашцев-полеводов несколько обидно, так ведь полеводство дело сезонное и колёсное, ради него ни школой, ни медпунктом, ни самой Тарпановкой никто бы и дорожить не стал – мало ли тому примеров на стороне. Хотя, конечно, при таком, не сказать, что однобоком, но чересчур обнажённом подходе к прояснению истоков и первопричин, обиды на нас со всех сторон могут посыпаться.
Возьмите тех же ветеранов-бойцов, тружениц тыла, самых хотя бы обиженных изначально, или осколки интеллигенции, застрявшие в Тарпановке не только со времён великих переселений народов; ту же относительную молодёжь, которую хоть и на ферму не загонишь, зато уж претензий, обид…
Пошёл! Пош-шёл отсюдова, Орепей поганый!.. Нельзя! Вывалялся где-то и лезет…
Вот так с этими отступлениями. Добро бы фундаментальное что-нибудь затевали, а то собрались текущий момент ухватить, а сами…
Да ты отстанешь или нет?! Пош-шёл вон, Орепей! Так-то славный кобелёк, но почему-то немой от рождения и приставучий, как… Орепей, паршивец, нельзя! От ушей до хвоста в какой-то гадости.
2
Повторно придётся отсюда начинать, с магазинного крыльца. На ободранной двери тут висят тяжкие запоры, и покамест тихо – народец в стороне собирается, основная, женская его часть уже подтянулась. Сама же торговая точка называется довольно затейливо: «КООП. Товары повседневного спроса №3. Волостновское сельпо». Однако повседневно за этой дверью можно обнаружить только груду чёрных бахил, изготовленных лет десять назад неизвестной отечественной фабрикой как бы для развивающихся стран, пару пропылившихся… польт, что ли? Стайку баночек с грузинским природным чистящим средством «Цеобен», стопку тюбетеек, но не узбекских, а заведомо интернационального покроя и расцветки, перемещаемых по полкам, может быть, ещё со времен Осоавиахима и повального увлечения авиамоделированием. Саратовскую гармонь с колокольчиками, которая всё же покупалась два раза, но возвращалась на место ещё в день покупки. Наконец, тщательно оберегаемый, регулярно протираемый специальной тряпочкой хрустальный рог (предположительно, изобилия), про который даже затрудняемся, как будет смешней сказать, что он весит почти пять кило, или только одну цену назвать: 227 рублей, положенных от государства, плюс 6 рублей 71 копейка гужевых. Есть, конечно, и другая, пластмассовая, в основном, мелочь, есть весы стрелочные и счёты деревянные, висят почти белый и совсем синий халаты продавца Зинаиды Павловны Калмыковой, а про веник в углу и служебного назначения мышеловки разве что для смеха упомянуть. Почему бы, скажете, не списать всё это одним махом? Можно и списать, но тогда и завозить придётся опять что-нибудь этакое, что-нибудь из «уценённого» мордасовского магазина, потому что забрось ходовое, действительно повседневное, мигом расхватают, и будет стоять не магазин, а сарай какой-то под замками, последние мыши разбегутся.
Но два раза в месяц тарпановская торговая точка название своё все же оправдывает полностью, и происходит это во вторую и четвертую среды, называемые в сельпо «вывозными», а в Тарпановке – «отоваренными»; сегодня и есть отоваренная среда, вот для чего народ.
Ладно, пока они там собираются, ещё несколько деталей в пищу изыскателям грядущих дней. О талонах, карточках, визитках им наверняка известно, а мы возьмём вот эту тетрадь в клеточку, где слева изображён список тарпановцев, а направо, по урезанным сверху страницам, Зинаида Павловна (теперь придётся сказать, что сами тарпановцы свою продавщицу чаще всего называют просто Калмычихой, хотя к матери её, тёте Зое Калмыковой, уважение полное и безоговорочное), пользуясь то карандашом, то ручкой, помечает отоваривание условными знаками собственного воображения: водка – птица, сахар – крест, мыло – минус, чай – плюс, стиральный порошок – снежинка, шампунь – скобочка, одеколон – двойная птица, спички – копирайт, а керосин ею отмечается в литрах: три, пять, семь и так до пятнадцати.
В списке же первой значится фамилия бригадира Артёмова, но будь он хоть Хромовым, как дядя Илья, все равно именно на этом месте стоял бы. Далее идёт счетовод Иван Михалыч Кирин, затем Шоков Василий Кузьмич (имеется в виду Шока, заведующий фермой), четвертым стоит Г. И. Морозов, прозванный Правой Рукой, и уже после них, в беспорядке, инвалиды-бойцы и труженицы тыла, и на них мы специально задерживаем внимание будущих историков нашего смутного времени. Дело в том, что бойцы и труженицы имеют в каждом месяце по два льготных знака: звезду за мясо и кружок за двести грамм сливочного масла крестьянского. В июне заслали бутербродное, обезжиренное, так инвалид Дробышев дядя Коля велел председателю сельпо Мосину подавиться им, расшиб дверь в магазине и с крыльца, будучи в сильнейшем волнении, чуть вперёд головой не спустился; масло же, бутербродное, пока не растаяло, Зинаида Павловна разделила подвернувшимся труженицам, а дядя Коля своим домашним обошёлся. Не велика трагедия оказалась, но в чём-то и дядя Коля, без сомнения, прав. Вот. И только лишь после ветеранов в списке, в прямом соответствии с российским алфавитом, идут рядовые потребители, кончая Федей-Фаридом Шафеевым и тётей Полей Янсон. Между этими последними и упомянутый Илья Иванович Хромов записан, хотя, если посмотреть списки актива, то он ближе всех к бригадиру Митяю, заведующему Шоке и к Правой Руке Морозову окажется: Илья Иванович даром что классный механизатор-пропашник, рекордсмен по кукурузе и подсолнухам, он ещё и член ревизионной комиссии всего колхозного кооператива.
Порушить этот порядок попытались тарпановские доярки, но Зинаида Павловна (в данном случае, истинно Калмычиха) сунула им под нос тетрадку, разукрашенную знаками отоваривания месяца за три, подержала так, чтобы в глазах зарябило, и раз и до конца года отрезала: «По новой я эту галиматью переписывать не стану! Нашли дурочку». Ну и действительно. Хоть бы раз за всё время в списочном порядке выстроились – не было такого. Да и нет среди собравшихся перед крыльцом пока ни одной доярочки. Телятница тетя Маня Гагаркина пришла, разнорабочие сёстры прибежали – Шура Машина (фамилия – Вашурина; вообще Вашуриных когда-то много было на Тарпановке) и Маша Шурина (Луговая, потому что замужем маленько была и сыночка прижила, Петю, он теперь учётчик в Тарпановке), домохозяйки Елена Васильевна Воеводина и Веруня Морозова подплыли. Ещё там пяток старых бабушек, за которыми девяностолетний дед Устимов возвышается – умеренный, достойный старик, предположительно, ветеран-колчаковец и иноверец в православной тарпановской среде… а! вон и почтарь Мозговой на служебном велосипеде показался.
3
Итак, наступила очередная отоваренная среда в её наиболее полном варианте. То есть, ожидался и сахар, и мыло, и увеселительные напитки. Откуда-то было известно, что сахару положили по 850 граммов на едока ввиду августовского его перерасхода. Тогда, поддавшись демократическим – анархистским, в сущности – настроениям, отвалили по два с половиной кило, но вместо компотов и джемов только самогона и бражки напрудили, хотя, конечно, и варенье, и компоты тоже были изготовлены, даже и в Тарпановке, из овражной ежевики, в основном, и наливных мелких яблочек. Разговоров об умышленном вредительстве именно из-за удавшихся компотов не было, хотя в районе, переживавшем самый разгар уборочной, и комбайны простаивали целыми звеньями, и зерно полными кузовами валилось не на тока, а с шатких мостиков в грязные речки вместе с автомобилями, и скоропостижные безвременные похороны произошли, не говоря о рядовых приводах в милицию. И вот пришёл черёд платить урезанной смешной нормой сахара, но не роптали. И о вредительстве речь не шла, и не роптали.
Когда около магазина собралось, считай, все население, регулярно принимавшее участие в отоваривании, нарисовались те, кто раньше и дороги-то к магазину не знал, поручив, казалось, навсегда этот маршрут жёнам, матерям, тёщам и добровольным посыльным. Теперь же посыльные у Зинаиды Калмыковой, вооружённой списками, не проходили, за исключением, между нами сказать, старика Мясоедова, читаки – местного как бы попа, чью долю Зинаида вручала матери, идущей в православной тарпановской среде под вторым номером, и та доставляла продукты, иногда присовокупив ещё и свою уточку, со словами «прими, отче», хотя была моложе «отца» ровно настолько, чтобы не поклоняться ему, а, скажем, заниматься неторопливой, размеренной любовью, состояние здоровья обоих вполне это позволяло, а временами и требовало.
Тут надо заметить, что, несмотря на регулярное местное снабжение, выезды в другие, более оживлённые торговые центры и помощь удалившимся детям и внукам, денежные ресурсы позволяли собравшимся, не сходя с места, взять и по мешку рафинада или песочка на едока, и по упаковке мыла, и по бутылке французского, лучших сортов, коньяка на нос; а мужчины потом бы обязательно вернулись и – апортэ, сильвупле, анкор юн (то есть, ещё одну) бутылочку… Но сказано же: и радо бы государство удовлетворить этот шанхайский спрос, да нечем.
Пока припозднившиеся мужчины разминались, перекидывались случайными словечками и простыми выражениями, слегка задевали с разных сторон пенсионеров к естественному их удовольствию, женщины давно уже и в который раз увлечённо вспоминали прежнее снабжение, и даже заспорили малость, выясняя, девяти или шести всего цветов мулине приходили в московских посылках. Сошлись всё-таки на шести, имея в виду, что теперь-то и настоящих чёрно-белых ниток, хотя бы сороковой номер, днём с огнём в магазинах не сыщешь.
– А какие, девки, трапареты для вышивки продавали! – вспомнила Шура Машина. – «Сестрица Алёнушка», «Остров Буян»… Растянешь на пяльцах – и куляй крестиком. До света сидишь – охота глянуть, какое личико, теремок какой получится.
Выслушали её молча, не много уж заядлых вышивальщиц по селу набиралось: второй после самой Шуры была красавица Соня-немая, а старым старухам, бабе Фене Ласточкиной да бабе Моте Касаткиной, например, некому было и простую нитку в иголку вдеть.
В мужской же среде несвязные речи в какой-то момент сгустились на межнациональных отношениях, и счетовод Иван Михайлович Кирин, довольно начитанный и житейски мудрый человек, выступил с аллегорией о том, как клёпки в бочке захотели самостоятельными быть. Одна говорит, хочу в резном шкафу красоваться, другая – хотя бы в наличнике, третья… у всех, в общем, местечко облюбовано. Ну, поднатужились, поднапёрли – лопнули обручи! И нету бочки – куча гнутых, провонявших рассолом досочек валяется. А была необходимейшая вещь. Вот и самостоятельность, вот и суверенитет-винегрет. Аллегория понравилась, и разговор окрепнул не только от непечатных выражений, он пошёл в ширину, и при этом довольно споро.
И гуляло на безоблачном с поволокой небе октябрьское, как бы прощальное солнышко. Светлые лучи его, утратившие летнюю оголтелую беспощадность, едва ли грели в огородах намерзшиеся, нахолодавшие за ночь вилки белокочанной капусты, высвечивали прощальный наряд палисадников, проникали до дна ручейка, бывшего когда-то рекой Молочайкой, золотили в заречной стороне поизреженный осинничек, подкрашивая изумрудом озимую рожь на шестом, видимом из села на три четверти, поле. Ни ветерка.
Раза два с Матвеевой шишки, чуть различимой от магазина, поднималась туча чёрных носастых птиц, и тень её, как от рыболовной сети, невзначай накрывала собрание. Под набегающей лёгкой тенью поёживалась, передёргивала плечиками красавица Соня-немая, чувствительная, как и все неравномерно развитые организмы, ко всяким атмосферным явлениям, но самой птичьей стаи она не замечала.
Заметил пернатых Луговой Петя, учётчик, и тут же мысленно взлетел следом, так как несбыточной мечтой его второе лето подряд был дельтаплан служебного назначения с моторчиком, но, уже набрав подходящую высоту, он неожиданно вспомнил, что на четвёртом поле допахивает «балалайки» Михаил Петрович Воеводин, на седьмом – молотит подсолнухи Дмитрий Иванович Кутырин, а поскольку это означало тащиться туда с сажнем и производить вычисления по всем трём известным формулам, Петя тут же потерял интерес к свободному полёту.
Между тем с высоты полёта сорной птицы можно было видеть, что события приближаются со скоростью вон того «москвича» с «шиньоном», пылящего к селу по волостновской дороге с севера, и не обещанный товар на нем едет, а бригадир Дмитрий Зиновеевич Артёмов, полчаса назад покинувший кабинет председателя Ужикова и ещё не сообразивший толком, каким наиболее безобидным способом донести до вверенного ему контингента последнее полученное распоряжение. Ему бы на лошадке ехать, помахивая для порядка и поддержания статуса кнутиком, тогда, глядишь, и план, и речь, и возможные последствия были бы им продуманы и просчитаны, а так, редко где притормаживая, выдумал он лишь какой-то снисходительный тон не распоряжения даже, а поклона-просьбы в форме «а ещё шлёт вам привет…» Ему бы хоть перед встречным самосвалом, отвозящим семечки от комбайна Дмитрия Ивановича Кутырина на цен-тральный ток, остановиться, дать закурить водителю, ведь целый ящик махорки в подмоченных, правда, пачках на сорок восемь тарпановских курильщиков везёт по разнарядке… Но нет, проскочил и мимо самосвала, уступившего к тому же и дорогу.
4
Закрываемая бригадиром дверца «шиньона» сочно щёлкнула в образовавшейся при его появлении тишине, и многие вдруг вспомнили, что время сейчас – рабочее. Поднятая было пыль поразвеялась, и сейчас же из толпы ожидающих прозвучал невинный старушечий вопрос:
– А не зря ли мы собралися тут, Митрий?
Артёмов коротко оглядел ближайший ряд, но не нахмурился по своему обыкновению, а зачем-то широко и простовато ухмыльнулся:
– И очень даже не зря! – ответил.
Полсотни человек как бы разом вздохнули и загомонили.
«Может, сначала махорку раздать?» – мелькнула удачная ведь мыслишка в бригадировой голове, однако ноги уже несли его к мужикам, пускавшим на ветер (в переносном в связи с затишьем смысле) прежние табачные запасы.
– Ну, как там, в столицах? – спросил его Иван Михалыч Кирин, ещё вполне не переживший свою удачную аллегорию насчёт клёпок.
– А в столицах вот какое положение, – Артёмов остановился и поиграл снисходительной усмешкой. – Пахать им ещё полторы тыщи гектаров и косить больше половины подсолнухов. Просят помочь!
– Ещё чего, – вполне нейтральным тоном, без особенного какого-то смысла, но довольно внятно проговорил Николай Анучин и сплюнул себе под ноги.
– Действительно, – пробормотал Николай Оборин.
– Они, бля, змеи полосатые, привыкли там на всём готовом, а тут, язва, ко-лотишься как… Да ещё помогай им! – выдал скороговоркой Ванька Швейка.
– Да как же, один ведь колхоз, – ещё успел сказать Артёмов, а дальше только поворачивался да наливался краской.
Один за другим мужики и цигарки свои побросали.
– Ты же сам, Зиновеич, солярку по буровым добывал в уборочную, а они что? А они поплёвывали да письма в верхи сочиняли!
– Курить им не дали, они комбайны бросили!
– Твёрдую пшеницу докашивать, так из «Авангарда» звено заманули, а как на зябке мантулить, так и тарпановские сгодятся?!
– Не, ну какой дурак догадался нас к этому «Маяку» прицепить? Сами там мухлюют, измухлевались все, а мы по три месяца из-за них без зарплаты сидим. Платить нечем! Да столько оглоедов не токмо колхоз проедят!
– Там одних алкашей – сколько всех нас всего по деревне!
– Да отделиться от них к чёртовой бабушке!
– До Мордасова, до ихнего «Авангарда» нам на шесть километров ближе. Чё ж туда не прикрепили?
– Мантулим на Волостновку, а все дела в Мордасове.
– Да отделиться – и всё!
– Как я за ремнями к ним, так «нету, в центр поезжай», а теперь «помоги-и»!
– Ну, чё мы, правда, от волостновских видали? При совхозе и то хлеб каждый день завозили, уголь выписывали до пяти тонн, а этот размахали, а толку…
– Да отделиться, я говорю!
– А ты, Зиновеич, небось сказал «счас прискочим»? Расскакались, ага! Когда с чулпаном этим греблись, приехали они? Дали хоть пару «колосов»?
– Это, ладно, мы управились. А и не управились – всё равно на свои подсолнухи погнали бы. Как же, за один только план им по шесть окладов пишется! А ты и мешочек семечек не возьми!
– Мантулишь, мантулишь – всё двести два рубля…
– Да ещё бы им от намолота все получали. Иди ты, намолоти на этих солончаках, на шишках!
А Юрка Гавриков всё подзадоривающее «н-да!» вставлял, прямо цвёл, от одного к другому поворачиваясь.
На шум, между тем, потянулись несколько забуксовавшие на тряпочках-моточках женщины, а доярочки наши – первым рядом.
– И правильно! – вклинились их тренированные голоса. – Молочко-то каждый день да по два раза потягивают с фермы, а зарплату всё платить нечем. Пускай тогда садятся да сами за сиськи дёргают!
– На ихний комплекс-то, говорят, сахарок мимо списков подбрасывают. А нам хоть бы раз в квартал, хоть бы вермишели.
– Да, хоть бы по килограммчику. Сахар самогонщики перевели, а лапшу-то кто?
– А галоши глубокие тоже самогонщики слопали? А зубы теперь солью чистить?
– Лишь бы им на кого свалить!
– Да чего бестолку…
– Бестолку им!
– Им всё бестолку!
– Да ещё приедет да стыдит: на двести грамм ему надой снизили. Нечего нас стыдить! Раз ты председатель, учёный – делай, чтоб не снижали!
– Корова, поди, не трактор, чтобы зимой и летом одинаково гудеть!
– У них там и котельни, и богадельни – газ уже по дворам тянут! А тут по самые сиськи, что мы, что коровы, по полгода.
– Помыться, просушиться на фирьме негде!
– Вы знаете что? – не стерпел тут заведующий Шока. – Вы эту политику кончайте. Сапоги им мыть негде!
– Да вот, и негде!
– У них, послухаешь, душевая, чаёк, как прынцесы, попивают перед зеркалом.
– Да потому что, бабы, у них там центр, а у нас – Тарпановка! Чё ж не попивать, когда есть, на ком кататься!
– Автобусом на дойку ездиют!
– А мы несознательные, нам всё сойдёт!
– Вот и посылай тогда сознательных!
– Пошлёшь… Они пошлют тебя!
– Да разве я вам что-нибудь сказал?! – выкрикнул тут Артёмов. – Вы-то чего базарите?
– Мы базарим? Нет, мы – базарим! Да мы, чё ж, или вчера народились, тебе в рот глядеть? Или мы тут по коврам ходим?
– И на ковры вам талоны выписаны! – крикнул Шока.
– Да подотрись ты этими талонами! На пол мне, что ли, ковёр твой стелить?
– Они-то, бабы, зарплату в центральном правлении получают! Не знают уже, чем рты нам позатыкать.
– Кто вам их затыкает, – обиделся и махнул рукой Артёмов. – Самим два раза уж повышали, а туда же…
– Куда же?
– Да на что они нам, повышения ваши? Живёшь как… Сходить некуда.
– Привёз экономистку расфуфыренную: будем, девчата, на гурт деньги выдавать, распределяйте сами – будьте хозяевами…
– Хозяевами, да! А я по ту пору молоку своему хозяйка, пока из-под коровы её несу. Вылила – и ваша она, не моя!
– Трубок ещё навешайте, чтоб мы совсем молока не нюхали.
– Нашли хозяев!
– Мы жизни своей не хозяева.
– Я сказала: девки, последний год с вами корячусь. К чёртовой матери провались!
– Энти и в колхозе путём не работают, и денюшки гребут…
– Да причём тут деньги! Деньгами они и хотят нам все дыры позаткнуть, чтоб уж всё – молчок! Сопи в две дырочки и план давай…
– Всё по плану, всё по плану: надо срать по килограмму. Хлеба дали двести грамм – как насерешь килограмм? – исполнил в паузе Ванька Швейка, но лишь тумака от супруги словил, а разрядить атмосферу не удалось и ему, только к женским голосам снова мужские прибавились.
Причём Михаил Кузьмич Шоков, старательно не глядя на брата-заведующего, сказал:
– Вот зовут они нас помогать, так? Это же на полмесяца, не меньше. А потом надо технику поставить и в отпуска сходить…
– Хм, в отпуска!
– А как же? Вытолкают, потому что сакман начнётся, на ферму перейдём до марта месяца. А ведь и нам говорили: будьте хозяевами, за конечный результат работаете. Какие же мы хозяева? Хозяева зимой снегозадержанием занимаются, бороны-сеялки, комбайны ремонтируют. А мы опять: как в поле ехать, так собак кормить.
– Да и не пошли бы на ферму, – вступил Пётр Прокопьевич Лощилин, – где зимним ремонтом заниматься? В мастерской один только трактор под крышей устанавливается. И то – поставишь и ходишь кругами: того нет, этого.
– А они комбайновский цех, тёплый гараж для «бобиков» на наши денежки отгрохали. И вот увидите – ни одного комбайна от нас в ремонт не примут.
– По графику – один, – вставил Артёмов.
– Всё по плану, всё по плану, – начал вторым заходом Швейка, но тут же осёкся и показал пальцем вдоль улицы. – Во! Едет!
5
Прорвавшись через репейник, заполонивший брошенный двор Игната Бондарева, на Бригадную улицу выскочил всадник в развевающемся плаще и, поднимая отяжелевшую осеннюю пыль, наладился прямо к митингующим.
– Товара едет! – крикнул на скаку Чингисхан Мамаев и взмахнул камчой.
Все как-то разом посмотрели на магазин и увидели, что дверь его распахнута, а на крылечке стоят баба Феня Ласточкина да баба Мотя Касаткина – единственные, наверное, кто заметил появление Калмычихи и не имевшие интереса в общем толковище.
Чингисхан тут же спешился, бросил повторный клич в распахнутую дверь и сорвал с себя брезентовый плащ; его и Санька Корнеева, как добровольных грузчиков, первыми потом Калмычиха и отоварила.
Толпа решительно двинулась в сторону магазина, и бригадир Артёмов, остававшийся на месте, мог ещё услышать вялые доводы о том, что, мол, золотая погода для всех стояла, а те прогусарили, а теперь воют; что, если, мол, не осиляете, нечего было столько распахивать… пускай сами работают, не надорвались…
– Если на то пошло, – сказал, задержавшись около бригадира, Борис «Фитиль» Меркушев, – то пора, командир, откалываться самим от этого «Маяка». Совхоз мы покушали, на «Победу» попахали…
– Уж ты-то попахал, – неожиданно зло откликнулся бригадир и, кажется, сам подивился прорвавшемуся тону. – При «Победе» тебя мама, поди, под фартуком носила.
– Отделиться-ото-всех-навсегда! – выкрикнули из ушедших вперёд порядков, и, плюнув, Артёмов пошёл к своему «шиньону».
«Хрен вы у меня нынче получите, а не махорку!» – подумал он, захлопывая за собой дверцу, как чужую, а пока жундел стартер, рядом с ним в сделавшуюся сразу тесноватой кабину уселся Шока.
– Моя тут, что ли? – спросил Артёмов.
– Моя точно тут, – сказал Шока.
И они поехали к заведующему.
В магазин же на этот раз из подошедшей автолавки выгрузили три мешка сахара-песка (значит, по килограмму всё-таки, и для фермы с ведро останется), три ящика азербайджанского напитка «Апшерон», а также изрядное количество припухших банок скумбрии и окислившихся, пропитавших обёртки ягодных вафель, которые разошлись потом в виде нагрузки: скумбрия – к сахару, а вафли – к звездастому, по три пачки.
Товара хватило на всех. Вафли, например, испробовали и некоторые единоличные коровы, и молоко наутро дали не парное пресное, а слегка как бы даже игристое, и поросята, говорят, кой у кого заметно так прибалдели. Но и некоторые чересчур экономные тарпановцы чаёк в тот вечер не с сахаром, а с этими ягодными попивали – и ничего, никаких видимых последствий.
А вот в том закутке мастерской, где пока что бездействовал водогрейный полукубовый котёл, где распробовались сразу три экземпляра звездастого и поначалу был спор, означают ли буквы БЛВЗ на головках сам столичный город Баку или все же ликёрку городка Б., – именно там ближе к сумеркам и послышалось вдруг:
– А председателем будет Санёк! Будешь, Санёк? А ты, Юрк? Соглашайтесь, а то опять Артёмов или Шока усядутся!
И хотя митинговые страсти утишились, однако же основному мотиву так и не дано было развеяться. Где за чайком, а где и за рюмочкой мысль о разрыве с проклятущим «Маяком» развивалась, ширилась и укреплялась.
«Нам до Мордасова ближе на шесть километров», – повторялся один фактический аргумент, но местами высказывалось и желание существовать вовсе независимо и суверенно и построить, наконец, и свой клуб, и центральную котельную, и общую баню с трёхъярусным полком, а, может быть, и пекарню, чтобы не гадать два раза в неделю, свежий хлеб привезёт «Фитиль» или заранее окаменевший. Было посчитано, что при местных потребностях даже полный суверенитет мог бы обойтись не так уж дорого: в клубе, например, достаточно, чтобы конные всадники целиком на экране помещались, а под другие публичные места, как-то: правление и сельсовет, – можно бригадный дом приспособить, переселив медпункт в какой-нибудь брошенный, но, конечно же, всем миром отлаженный домок. Дорога же на Мордасов была прямая, хотя и глубоко местами размытая, по которой и сейчас возили учеников в интернат, а больных в районную больницу.
– У нас все есть, – слышалось. – И сроду мы центральные путём не признавали. И не в Долговке, а у нас церква была, – имелся в виду бывший зерносклад, строение, действительно, мрачное, хотя и без креста на полусшибленном кумполе.
Витек же Пиндюрин, приехав домой на Заразе, услышав от жены довольно ясный пересказ дневных событий, сначала, разумеется, поинтересовался насчёт батареек для транзистора, а потом как-то незаметно увлёкся, и уже через полчаса его осенило:
– А при отдельном колхозе и школу бы десятилетку открыли, а, Валь? Тогда бы и Виктория Викторовна, и Жека, и Пека с нами были, а Юрке бы они учиться помогали… О, Валь! А ты бы учительницей пения пошла! Пошла бы?
Валя Пиндюрина, точно, была певуньей. Начнёт на ферме бидоны мыть, так просто концерт по заявкам. Правда, с мотивами у неё туго, три всего – «калинка», «катюша» и «подмосковные вечера», – но по содержанию сотню, может быть, оригинальных произведений отечественной эстрады всех лет за нею насчитать можно было, включая даже «Хабибу».
Бедновато насчёт новых идей в чисто стариковских домах оказалось, да ещё, например, на квартире у Зинаиды Павловны Калмыковой. Шофёр автолавки передал ей вместе с накладными отдельный ящичек, в котором отыскался заказной товарец и как бы премия за растоваривание центральных магазинов и складов. Ничего особенного, конечно, но мама Зоя потащила своему духовному отцу и положенный ему паёк, и две банки сгущённого молока, и китайского долгоносого риса хороший кулёк, а также тёплые меховые рукавицы, обшитые фланелью. Содержимое премиального ящичка Зинаида Павловна распределила по двум сумкам, причём одну принесла, а за другой спланировала сбегать, когда мама вернётся. Чтобы не маячить на крыльце, она предусмотрительно освободила от внутренних запоров боковую дверь, и теперь та держалась на одной только жидкой контрольке. Вспоминая об этом, Зинаида Павловна мысленно поторапливала мать, но ожиданием особенно не томилась. Верней, не ожиданием томилась она… Ещё верней – ожиданием, но чего-то неопределённого, неизвестного. То есть, известного, конечно, но далёкого и недоступного именно в этот насыщенный всякими волнениями день. Собирала посылку дорогому сынку в Челябинск, а думала совсем-совсем о другом. А в телевизоре, как нарочно, пили вино, смеялись, обдуривали закон и целовались взасос.
По-разному, в общем, заканчивалась эта отоваренная среда, как по-разному действовала и дневная зараза, пущенная бригадиром Артёмовым. Особенно деловой оказалась одна тайная встреча у порушенных плетней на берегу Полыновки, о чём участники её и дали потом пару намёков, но не станешь же её целиком придумывать.