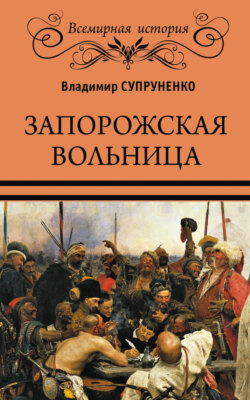Читать книгу Запорожская вольница - Владимир Супруненко - Страница 33
II. Верность земле и преданиям
Чьему роду нет переводу?
Оглавление– Возле самого Днепра, ближе к Перуну, гробки были – там «порядком» ховали (хоронили. – Примеч. ред.), один коло другого, а чуть выше возле балки Тавлижанской курган стоял, меня тоже туда подрядили, – там костяки впритул лежали, все вместе. При каждом, правда, своя «дань» была – у того горшечок, у того зеркало, у того шаблюка, – так разбитной веселый тракторист Николай Павлятенко из села Орловского рассказывал про раскопки древних захоронений, в которых ему в молодости довелось принять участие. Бывший лихой тракторист выглядел весьма живописно: цветастые трусы, рубашка с оторванными рукавами, которые свисали с локтей, как рукава казацкого кунтуша, недельная щетина и страстное желание направить русло мирной беседы в порожистую круговерть. Глядя на него, я отчетливо представлял вольного запорожца Орла, рыбацкий кош которого стоял неподалеку в балке. От этого казака-сидня и пошли местные названия – и затопленного острова, и балки, и села Орлянского. За соседним селом Перуном – балка Пластунова. В ней обитал, как объяснил Николай, казак Пластун. «Это чтоб вам было понятно, какого мы тут все колена, – потряс пальцем, будто погрозил кому-то тракторист и добавил: – А запорожцы были дядьками, боже мой!» Разговор снова зашел о раскопках вблизи балки Таволжаной. Николай даже вызывался проводить нас к «гробкам». Засобирался было, однако тут подошел сосед, заговорили о другом – и он тут же забыл о своем намерении…
Люди издавна селились в районе порогов, где было много укромных мест, пещер, добычливых урочищ. В степи было пустынно и ветрено, в плавнях – сыро и страшно, к тому же донимал гнус, пороги же, хоть и пугали своим ревом и крутым нравом, предоставляли все удобства для комфортного существования целых племен. До сих пор на песчаных отмелях, среди прибрежных камней, в устьях балок находят и осколки кремня, и кремневые ножи, и скребки, и костяные иглы, и наконечники стрел, и каменные молотки, и черепки горшков, и старые монеты. Началось с палеолита, с древних охотников на мамонтов, потом чередой здесь прошли степные народы. С XVI века порожистое пограничье стало вотчиной запорожских казаков.
Остатки их доблестного войска после ликвидации Сечи были расселены вдоль Днепра, в том числе и возле самого грозного порога. Оттого и село стало называться Войсковым. Село расположено чуть ниже Ненасытца, однако и тут в тихую погоду хорошо был слышен его рев. Кстати, он для сменивших саблю на плуг запорожцев был своеобразным гимном их былой вольницы, напоминал о громких ратных делах и подвигах. В местной школе мне назвали несколько сельских фамилий (Швец, Песоцкий, Черевченко, Прокопенко) и попросили уточнить, не значатся ли они в реестрах казацких куреней. Потом направили к восьмидесятипятилетней бабе Наталье Омельченко. Еще подвижная, ко всякому дворому и хатнему делу охочая старушка, оказалось, помнит и голос порога, и вид его.
– Камни все в воде какие-то выделанные были – гладкие, красивые. Я помню, как вода струей летела, а потом будто внизу ее что-то крутить начинало. Во все стороны брызки. Люди там на камнях дневали и ночевали. Нас, правда, малых туда не очень допускали. Я вот надписи разные помню на камнях.
– И что там было написано?
– Тогда нам не очень доходило. Имена всяких вояк.
– Краской рисовали?
– Нет, выбито – на все времена… А вы пойдите, посмотрите. Тут рядом…
– Так под водой все.
– А может, и нет. Хоча, правда ваша – затоплено. Тогда того Днепра считай с ширину нашей балки Мерзлячки было.
Мы решили остановиться в Войсковом. Дочь бабы Натальи местная поэтесса Александра Омельченко (в одном из ее стихотворных сборников я нашел «Балладу про Ненасытец») предложила переночевать у них. До вечера было еще далеко, и мы отправились в соседнее Никольское, напротив которого находился знаменитый порог. Обогнули заводь, где располагалась местная «рыбальня», по разбитой грунтовке спустились в балочку, поднялись на бугор, и вот мы уже в Никольском. Старушки с окраинной Пятихатней улицы (когда-то тут было всего пять хат) направили прямо вниз к Камням. Так теперь тут называют валуны на берегу, с которых местные рыбоуды ловят бычков. «Надпись» обнаружилась не на этих прибрежных облизанных волнами, скользких камнях, а чуть выше. Сторож расположенного над Камнями детского оздоровительного лагеря показал нам прикрепленную к скале чугунную плиту, на которой было выбито: «В 972 году у днепровских порогов пал в неравном бою с печенегами русский витязь князь Святослав Игоревич». Плита раньше располагалась непосредственно над порогами, потом, когда поднялась вода, ее перенесли выше. Надпись разделена мечом, острие которого обвивает дубовая ветвь. Здесь в районе порогов в древности хватало и дубовых лесов по берегам, в которых прятались «вояки», и кровавых пограничных сражений, и внезапных предательских нападений из скалистых лощин и оврагов. Так, кстати, возвращаясь на ладьях со своей ослабленной после неудачного балканского похода дружиной, погиб у порогов Святослав. По обоим берегам Днепра напротив Ненасытца это, пожалуй, единственный памятный знак, которым отмечено одновременно и место самого грозного порога, и слава чубатых предков (Святослав, кстати, тоже брил голову, оставляя характерный казацкий чуб). Надеюсь, что к нему не зарастет покрытая ныне асфальтом тропа…
Километрах в двух от Войскового над переправой, где во время последней войны наши войска форсировали реку, в граните выбиты слова: «Мы не бронза, мы не камень, мы живые над Днепром и над веками». Свободными и отважными были те, кто селился здесь в Запорогах, на утлых суденышках и плотах пробивался через порожистую гряду, под градом стрел и орудийным огнем переправлялся через реку. Пусть так и будет всегда. Над порогами и веками…