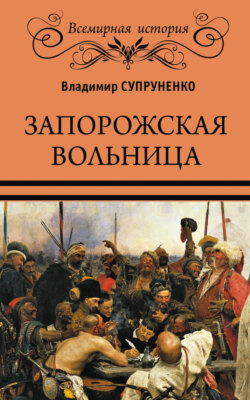Читать книгу Запорожская вольница - Владимир Супруненко - Страница 40
II. Верность земле и преданиям
Вояж к Таману
Оглавление…Мы съехали с трассы и вместе с велосипедами утонули в маковом красноцветье. Оно – на обочинах, в посадках, на заросших травой буграх, посреди пшеничных полей, за которыми вдалеке над сиреневыми сопками плывут белые облака. Конец мая – по берегам моря тепло, солнечно, временами в меру дождливо. В густой траве легко выхватываешь и желтую сурепку, и белые ромашки, и голубые васильки. Жизнь привычно мчит нас по серым и гладким асфальтовым протяженьям. Не остановишься, не свернешь, не оглядишься по сторонам. А на обочинах наливаются зеленым соком травы, пестреют букеты полевых цветов и алеют маки. Бесконечно волнующее диво первозданного радужного разноцветья. В нем тайна сотворения мира и трепетная радость его первых шагов… Мы оторвались от гудящей магистрали и, свернув на обочину, полыхающую маками, легко проделали эти шаги.
Шаги к истокам, преданиям, к следам, что оставили в далеких землях мои чубатые предки. Именно за этим я и приехал на Кубань. Все привычно было здесь и узнаваемо. И степь, и пшеничные поля, и уютные балочки, и травы, и посадки. Вот только алый маковый цвет. Такого я даже у нас не видел. Он будто из другого мира. Того далекого степного, навсегда ушедшего от нас. Остались лишь обочины… Мак для украинцев – цветок особенный. В нем все – и безграничность зведного мира, и солнечная земная благодать, и трепетная красота, и сладкий сон, и тайная любовь, и чары. В степном краю много легенд о героически погибших в чистом поле казаках, тела которых «зернами проросли, а летом маками зацвели».
Маковая дорога манила, звала вперед. Это было похоже на азартную скачку по степному безбрежью, которой так упивались запорожские всадники. Вскоре, однако, мы почувствовали усталость от этого ветреного порыва, безоглядности. Захотелось осмотреться, обозначить детали, обрамить увиденное. Тогда стали замечать и станичников с прокуренными усами, что сидели на колодах возле калиток, и юных рыбоудов по берегам мутных прудов и каналов, и чабанов, бредущих за отарами. Все легко и прочно ложилось в память. Много было цветов, хватало и ягодок. Возле села Екатериновки нас внезапно накрыл ливень. Благо рядом оказалась автобусная остановка, под навесом которой мы успели спрятаться. Просидели там почти до темноты. На ночлег располагаться уже было поздно, да и мокрота одна вокруг. Пошли проситься в приймы. У бабульки на окраине села стали расспрашивать дорогу до школы и вдруг услышали: «А вы звидкиля, хлопци, будете?» Так мы «въехали» в украинское кубанское село. «У нас тут наброд всякий, – объяснила бабулька. – В одних селах говорять, в других гуторять, а в третьих балакають. Вы как раз попали в то, где балакають». На следующее утро мы побывали в сельском краеведчском музейчике. Уже на первом стенде мне бросилась в глаза подпись под фотографией: «Самые первые поселенцы крестьяне из Запорожья». Одной рукой царица разрушала, другой одаривала, в одних землях ее называли «вражьей матерью», в других – «благодетельницей». И все же память – штука каверзная – с одинаковой силой цепляется за злое и доброе.
На следующее утро путь наш пролегал через станицу Старощербиновскую. Здесь «запорожский» след проявился в виде памятника казаку (к нему нас, кстати, привела улица имени Шевченко), который по внешнему виду имел полное основание называться запорожцем. В руках казак держал грамоту, на которой были выбиты слова: «Всемилостивейше пожалована Войску Черноморскому в личное владение состоящий в области Таврической остров Фанагорию с землею лежащею на правой стороне реке Кубани от устья Еи к Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной стороны была Кубань, с другой Азовское море. Войску Черноморскому надлежит единение и стража пограничная от набегов народов закубанских».
А еще через несколько дней мы достигли станицы Запорожской, которая располагается на Тамани в двадцати километрах от Керченского пролива. На рекламном щите она названа краем трех морей. Черное, Азовское – понятно (полуостров Тамань расположен между ними. – Примеч. ред.), а третье? Под ним, скорее всего, подразумевалось зеленое море виноградников (они безграничны и уходят за горизонт, как у нас пшеничные поля) и вино, которое производится на местном винзаводе. Мускат запорожский, кстати, признан лучшим из кубанских мускатов. Не запорожцы ли, которые знали толк в разных хлебных и виноградных винах (в том числе и заморских!), занесли сюда культуру виноделия? Во всяком случае, украинско-казацкое «Будьмо!» здесь на Тамани и под мускат, и под горилочку-оковитую, и под местный самограй (самогон. – Примеч. ред.) (всего довелось попробовать) звучало весьма уместно. Станица Динская стала Запорожской в 1910 году. Посчитали, что раз в крае живут потомки запорожских казаков, то хотя бы один населенный пункт должен точно и конкретно указывать на прародину кубанских казацких удальцов.
Вишни на Кубани такие же, как и у нас, и вареники с вишнями кубанские хозяйки лепят не хуже, чем в украинских селах. И борщи здесь готовят знатные, и галушками не брезгуют, и сало любят, и песни украинские поют, и звучные казацкие тосты провозглашают, помня своих днепровских предков. Какое семя, такое и племя. Запорожское семя по всей кубанской земле… А где же все-таки начало? Как, каким путем прибыли сюда первые запорожцы? Из станицы Запорожской мы отправились в Тамань. Ровное блеклое море, глинистые обрывчики, камышовые болотца, зеленые луга, грязевые сопки вдалеке – ничто здесь не напоминает о легендарном прошлом края. Первыми заглянули сюда греки, основав на месте нынешней Тамани колонию Гермонассы (рядом возле станицы Сенной находилась античная Фанагория). Потом пришли хазары, построив город Таматархи. Наконец и русские добрались до этого солнечного цветущего пятачка. Город Тмутаракань был самой дальней вотчиной русских князей. Остался след и после турок. Турецким фонтаном местные жители называют удивительный источник, вода в который стекает по зарытым на склонах керамическим трубам. Этой криничкой до сих пор пользуются таманцы. Даже объявили местной реликвией и назначили смотрителя.
Самый же колоритный, приметный, во многом знаковый таманский памятник стоит на приморском бульваре, возвышаясь над газонами, кустами, деревьями и даже – морем. Более двухсот лет назад по нему к кубанским берегам был совершен «вояж» черноморских казаков – бывших запорожцев. На гранитном постаменте легко узнаваема фигура сечевика со знаменем. Ниже – барельеф: море, волны, обрывистый берег, два больших военных корабля сопровождения и «чайки» с казаками. О том, что все это означает, можно узнать из надписи: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого, сооружен в 1911 году благодарными их потомками казаками Кубанского казачьего войска по мысли Таманского станичного общества в память столетия со времени высадки».
На другой стороне постамента длинный «вирш» на украинском языке. Я не поленился, полностью переписал его к себе в блокнот. «За здоровье ж мы царицы помолимся Богу, что она нам указала на Тамань дорогу…» – в таком незатейливом панегерическом тоне выдержан весь стих. Слова благодарности, как гласит надпись, якобы принадлежат судье войска верных казаков черноморских Антону Головатому. Это был редкий по уму и храбрости человек, обладавший талантом воина и дипломата. Современники отмечали его необыкновенное чувство юмора, поэтическое дарование, мастерство игры на кобзе. Находясь на должности войскового судьи – второго лица всего Черноморского войска, он организовал переселение черноморцев на Кубань, занимался обустройством новых поселений, наладил охрану неспокойных кавказских границ. По его инициативе в 1793 году в этих местах был построен первый храм Покрова Богородицы. Он существует и поныне. Его колокола, по преданию, отлиты из пушек, которые были установлены на «чайках» запорожцев. Авторитет судьи среди кубанцев был очень велик. О нем казаки сложили поговорку: «Знает об том Головатый Антон: он нам голова, он нам и батько – он нам поголыв головы гладко» (эта поговорка указывает и на мздоимство Головатого, ставшего затем атаманом черноморцев и «гладко оголившем головы» своих казаков. – Примеч. ред.). Так запорожские казаки превратились в кубанских. Была вольница днепровская, стала кубанская государева служба… Все равно своя воля, свое право. Своя казачья гордость. Что от нее осталось? Только ли памятник на таманском берегу?..