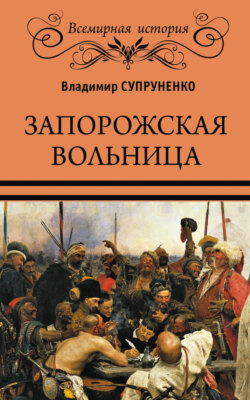Читать книгу Запорожская вольница - Владимир Супруненко - Страница 42
II. Верность земле и преданиям
На косах Азовских
ОглавлениеПолдень. Зной. Бреду по морскому берегу косы – под ногами хрустит ракушечник. Ветерок – ровная азовская полуденка – тянется за солнцем. Заходит с запада, потихоньку продвигается к югу – продержится еще погода! Едва слышно потрескивает на ветру песчаный колосняк (прибрежное травянистое растение. – Примеч. ред.). Иду по самой кромке прибоя. Собственно, это даже не волнение, а так – вздох сквозь дрему, легкое бездельное позевывание. Волны лениво, будто спросонья, тычутся в берег… Вода настолько прозрачная и тихая, что приобретает цвет светло-коричневого дна. Чуть дальше море желтеет, потом становится все туманнее, наконец, когда совсем не видно дна, окрашивается в изумрудный цвет. Дальше – полоса ряби, потом – чуть густой синевы и за ней до горизонта – голубизна. Дохожу до оконечности косы, так называемого шпиля. Тут слышно, как шумит море, кричат чайки. Лучи солнца натыкаются на их крылья – от них стремительные тени на песке. В прибойной пене кувыркаются ракушки. Трудно поверить, что из них состоит суша, на которой надежно стоит маслиновая рощица, маяк, хатка смотрителя – их видно за бугром. Развязываю рюкзак, достаю карту. Прикидываю, в какой бухточке здесь могла бросить якорь казацкая «чайка». Известно, что запорожцы, спасаясь от турецких галер, заскакивали в Азовское море и заходили в малые реки. По пути они могли останавливаться и в гаванях на оконечностях кос, которые загнуты, как рыболовные крючки. Здесь даже можно было найти пресную воду, добыв ее из колодцев-копанок. Беглецам помогали и рыбаки. Они издревле селились на косах. Немало было среди них и запорожцев. Все для лихих днепровских лугарей здесь в Приазовье было привычным, знакомым, изведанным. От Днепра до азовского побережья – хоть по торной дороге, хоть по тайным тропам или глухим балкам – от силы три-четыре дня пути. Простора и воли на побережье хватало. И морская жара не изнуряла. Ее смягчал степной ветер, напоенный ароматом трав. И тарань здесь ловилась такая же, как в Днепре, и судаки в сети попадались, и лещ шел. И осетрам пришлые рыбари не удивлялись, и даже на белуг глаза не таращили – этого добра и в плавнях за порогами хватало…
Косы на северном азовском побережье знакомы мне с детства. Самые чудесные и значительные открытия произошли именно тогда. Однако, когда в очередной раз приезжаю к солнечному Азову, он, наверное, по старой дружбе, продолжает раскрывать свои тайны, одаривать сувенирами из далекого прошлого. Каждая дорога что-то обещает, куда-то ведет. Дорога вдоль восточного пляжного берега Кривой косы, как когда-то былинного богатыря, привела меня к удивительному камню. На песке стоял гранитный памятник в два человеческих роста, сделанный в виде дубового ствола с обрезанными ветками. Я подошел ближе и прочитал: «Войсковой старшина (т. е. подполковник Войска Донского. – Примеч. ред.) Александр Климович Шурупов. Сконч. 13 июля 1915 г. на 93-м году жизни. Мир праху твоему». «Живут же люди», – подумал я тогда. Однако тут же поправил себя: «Жили». Кто? Где? Местные жители объяснили, что памятник с берега сюда специально привезли рыбаки. Хлопотное это было дело, однако косяне (жители морской косы. – Примеч. ред.) постарались. Многие ведь здесь считают себя потомками войсковых старшин, ватагов рыболовецких казацких артелей, вольных казаков, основавших на побережье хутора. Это отразилось и в названиях. На Беглицкой косе, которая вдается в море восточнее Кривой, например, когда-то поселились беглые запорожцы. Огибая Азовское море, казаки, которые бежали из турецкой неволи, задерживались в устье Дона, а оттуда уже пробирались домой на Сечь. Многие оставались на косах, примыкая к обосновавшимся здесь ранее беглецам. Некоторые, правда, считают, что казачкам, которые облюбовали эту косу для рыболовецкого ухода, приходилось все время «убегать» от моря, постоянно заливавшего берег. О других казацких поселениях и в памяти местных жителей, и в архивах сохранились более достоверные сведения. Точно известно, например, что запорожские казаки на Белосарайской косе (она расположена западнее Кривой) в устье реки Кальмиус для защиты своих зимовников, рыбных промыслов и дорог от татар основали сторожевой пост Домаху. Кстати, это название, обозначающее временный рыбацкий стан, было очень распространено в Великом Лугу… В середине восемнадцатого столетия пост стал центром Кальмиусской паланки. В архивах сохранилась жалоба донских казаков, которые в 1743 году жаловались на кальмиусского полковника Кишенского. Тот якобы прибыл в Новочеркасск, собрал ватагу беглых запорожцев и, переплыв Азов (г. Азов стоит в «гирлах» Дона близ Азовского моря. – Примеч. ред.), стал рыбачить на Ейской косе, которую донцы считали своей. Запорожцы на азовских перепутьях чувствовали себя настолько вольготно, что даже тогда, когда сечевое начальство потребовало прекратить самовольные вылазки на чужие территории, ничуть не притихли и продолжали рыскать по побережью в поисках фартовой рыбной поживы. Чтобы избежать ссор между донскими и запорожскими казаками, российский Сенат в 1746 году принял решение установить границу между Войском Донским и Запорожским по речке Кальмиус. Ее левый берег стал донским, а правый – запорожским.