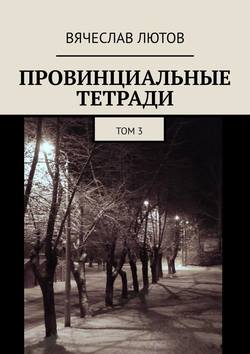Читать книгу Провинциальные тетради. Том 3 - Вячеслав Лютов - Страница 19
СНЫ ГРИГОРИЯ ВАРСАВЫ (2003—2005)
В поисках счастья
ОглавлениеРусские философы так часто писали о трагедии, что невольно начинаешь говорить об определенном трагическом мировосприятии, ставшем одной из черт нашей философии, ставшем ее особым дыханием, голосом, драматическим жестом. Произрастая из реалий современности, личного опыта и откровения, вздрагивая от малейших неурядиц и зачарованно вглядываясь в глобальные катастрофы, прячась от мира возле церковных стен, онтологически впитывая все и всех, русская философия наполнена трагизмом и любовью, абстракцией и бытовыми «печными вьюшками». По философским системам топчутся литературные герои и человеческие судьбы, которые, по определению, неизбежно драматичны. И трудно отличить философа от поэта и поэта от философа – подобного отождествления мы не найдем в «чистой» классической философии с ее немецким порядком и массивностью дубовой лавки и пивной кружки. Антропоцентризм русских философских исканий начинался с трагических поворотов судьбы и, совершив жизненный круг, возвращался обратно. Из земли вышли – в землю войдем.
О трагедии писали многие русские мыслители – философ, как и поэт, должен быть «положительно несчастлив». О счастье – лишь единицы, и первым – Сковорода. Писал, борясь с червем неусыпным, с бесом тоски, что точит сердце, как вода камень, что выворачивает душу и выжигает ее адским пламенем.
Вся философия Сковороды – апология счастья, ода счастью, молитва о счастье.
Счастье – не философская категория. Хотя, к слову, бесконечная категорийность научных трудов еще не является свидетельством подлинного философского мышления. Счастье не укладывается в сетку понятий, оно хаотично, оно эмоционально; подчас это дрожжи, на котором поднимается тесто наших умозаключений и стереотипов. Родись счастливым – и разве нужна тебе будет «наука о счастье»?
Примечательно, но в своем «Очерке развития русской философии» Густав Шпет отказал Сковороде в «звании философа» именно по этой причине – еще можно «стерпеть» счастье как предмет морали, как дань эвдемонистической античной традиции, но только не как предмет философии. «Сковорода от начала до конца моралист, – пишет Г. Шпет. – Не наука и не философия, как таковая, владеют его помыслами, а лишь искание для себя и указание другим пути, ведущего к счастью и блаженству… Вся мнимая философичность Сковороды – лишь пристройка к „самонужнейшей науке“ о счастье».
И все же…
Как-то Сковороду спросили, что есть философия?
– Главная цель человеческой жизни, – ответил Сковорода. – Глава дел человеческих есть его дух, мысли, сердце. Всякий имеет свою цель в жизни, но не всякий главную цель. Иной занимается чревом жизни, то есть все дела свои направляет, чтобы дать жизнь чреву; иной – очам; иной – волосам; иной – одеждам и прочим бездушным вещам. Философия, или любомудрие, устремляет весь круг своих дел на то, чтобы дать жизнь нашему духу, благородство сердцу, свет мыслям, как главе всего. Когда дух в человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все светло, счастливо и блаженно. Это есть философия.
Современный мыслитель, читатель, воспитанный на совершенно иных философских категориях, вряд ли примирится с подобным вольным определением и еще добавит при этом, что защищать философию Сковороды – это удел панегиристов. Между тем, в сковородинской «теории счастья», как выступает с защитной речью Ю. Барабаш, переплелись основные принципы античной философии и этики: сократовское и платоновское самоограничение, аристотелевское умение управлять страстями, стремление стоиков к согласию с природой, презрение киников к «житейскому дыму» и нормам расхожей морали. Спорить же о том, философична ли этика или этична философия, мы не будем – не этот терминологический спор является благодатным дождем, помогающим прорасти зерну мысли.
Не поможет и «спор» между Афинами и Иерусалимом. У Сковороды языческая античность и новое христианство переплетены, смешаны, истолчены в ступке; под «древними мудрецами» у него спрятаны многие – и не идут крестовым походом друг против друга.
Подчас Сковорода делает совершенно неожиданные отождествления. Так, своей 30-й песней, произросшей из древнего стиха: «Наслаждайся днями своими, ибо все вмале стареет», он многих поставит в тупик:
Хочешь ли жить в сласти? Не завидь нигде.
Будь сыт с малой части, не бойся везде.
Плюнь на гробные прахи и на детские страхи;
Покой – смерть, не вред.
Так живал афинейский, так живал и еврейский
Эпикур – Христос…
В философской защите нуждался не только Сковорода. Воскрешенный им и отождествленный с Христом «духовный отец эпикурейства», ставший в расхожих стереотипах проповедником плотских наслаждений, низменных страстей и сластолюбия, был не понят в том же парадоксальном смысле, что и сковородинский Нарцисс. «Силу слова сего люди не раскусив во всех веках и народах, обесславили Эпикура за сладость и почли самого его пастырем стада свиного», – сетует Сковорода и каждый раз возвращается к «Письму к Менекею», подчеркивая, что «начало всего и величайшее благо есть благоразумие, а не удовольствие распутников». К попойкам, кутежам и оргиям Эпикур Григория Варсавы столь же близок, как Земля к Веге или Сириусу. Но мы упорно продолжаем видеть внешний холодный свет и думать, что этого достаточно для познания вселенной.
Сковороде не нужны Эпикур и Нарцисс кисти ученого-примитивиста; и в «шаблонного», «вымаранного из живой жизни» Христа Григорий Варсава тоже не верит. Его угнетают фальшивые ноты, его прижимает к земле дисгармония мира, которая стала следствием того, что человек в бесконечной какофонии суетных дней утратил способность слышать глубинные созвучия и самому быть созвучным природной и божественной глубине.
«Счастье! Где ты живешь? Мудрые, скажите!..» – спрашивал Григорий Варсава, но не чаялся услышать ответа. На бумагу ложились грустные строки: «Счастья нет на земле, счастья нет в небе». Где искать его, в каком углу оно заключилось, на какой вершине в недоступности спряталось, появится ли, покажется?
Он словно лукавит – разве могли дать ему ответ просторечные суматошные дни или безжизненная книжная ученость? Но сам в глубине знает, что «всем человеческим затеям выйдет один конец – радость сердца». Ее и ищет, ибо что еще искать, и говорит с уставшими путниками об истинном счастье в жизни.
«Не диковина дорогу сыскать, но никто не хочет искать». Мы подчас так сильно тоскуем о счастье, что, выжатые этой тоской, не желаем найти даже тропинки к нему, довольствуемся зыбкой тенью счастья – и радуемся тому скудной радостью. В наш адрес сковородинский упрек, что мы не в силах даже помыслить: а, собственно, какое нам нужно счастье, что оно есть из себя – груда ли сверкающего железа, или неуемный пир в ресторации, или мягкое кресло перед телевизором, или покой душевный и тихая гавань. «Сперва узнай все то, в чем истинное счастье не состоит, – учит Сковорода, – а, перешаривши пустые закоулки, скорее доберешься туда, где оно обитает». Вот только узнавать, перешаривать лень, и человек кружится оторванным календарным листом или бродит в темноте наугад – вдруг набредет на счастливую обитель? Стоит ли удивляться, что натыкается лишь на рогатки?
«Скажи пожалуйста, не вздор ли и не сумасбродство ли, что человек печалится о драгоценнейшем венце? А на что? На то, будто в простой шапке нельзя наслаждаться счастливым и всемирным светом…»
«Безумный муж со злою женой выходит вон из дома своего, ищет счастья себе, бродит по разным званиям, достает блистающее имя, обвешивается светлым платьем, протягивает разновидную сволочь золотой монеты и серебряной посуды, находит друзей и безумия товарищей, чтоб занести в душу луч блаженного светила и светлого блаженства. Есть ли свет? Смотрят – ничего нет…»
«Взгляни на волнующееся море, на многомятежную во всяком веке, стороне и статье толпу, так называемую мир, или свет; чего он не делает? Воюется, тяжбы водит, коварничает, заботится, затевает, строит, разоряет, кручинится, тенит. Есть ли свет? Смотрят – ничего нет…»
Григорий Варсава повторится, и сделает это еще не раз: «Ищем счастья по сторонам, по векам, по статьям, а оное есть везде и всегда с нами; как рыба в воде, так мы в нем, а оно около нас ищет самих нас. Нет его нигде, затем что есть везде. Оно же подобно солнечному сиянию: отвори только вход ему в душу свою…»
И ведь кажется – нет ничего проще. Нет ничего проще выйти из мрачной платоновской пещеры с вечно бегущими тенями на холодной стене и больше в нее уже никогда не возвращаться; нет ничего проще в бетонном городском кармане распахнуть настежь окна свежему ветру.
Беседуя с путниками, Григорий расскажет свою «платоновскую сказку», басенку. Жили-были дед да баба. Сделали они себе хатку, да не прорубили в ней ни одного окошка. Невеселая вышла хата. По долгом размышлении решили они свет доставать. Взяли мех, разинули его в самый полдень перед солнцем, чтобы набрать, будто муки, и внести в хатку. Попробовали раз-другой – нет света. Решила бабка, что мех дырявый, и свет из него вытекает, и надобно проворнее и быстрее в дом бежать. В дверях с дедом и зашиблась.
Благо, на тот случай проходил мимо странный монах. «Он имел от роду только 50, но в сообщении света был великий хитрец». Не стал он «секретной пользы утаивать» и посоветовал взять топор и прорубить окошко.
– Целый свет не видел столько бестолковых, как твои дед да бабка! – воскликнет в ответ один из путников. Впрочем, кто бы сомневался…
«Великий хитрец в сообщении света», Григорий Варсава не ограничится «счастьем извне», которое входит в человеческую душу, подобно солнечному лучу. Для Сковороды очевидно, что счастье мало «поймать», его нужно «принять», чтобы оно произросло изнутри. «Зачем мне гоняться за счастьем, – скажет он, – когда оно у меня за пазухою… дома». «Наше истинное счастье… живет во внутреннем сердца нашего мире, а мир в согласии с Богом; чем кто согласнее, тем блаженнее».
«Местоположение» сковородинского счастья сродни «искре божьей» и потаенному «истинному человеку», что «один во всех нас и в каждом целый». Такое толкование, по словам В. Зеньковского, вполне можно принять за «феноменальность человеческого бытия». Впрочем, феноменологических параллелей можно приводить много, да и сам Сковорода с его пренебрежением к «телесному болвану» человека эмпирического и «буклям и кудрям» эмпирического же счастья дает тому немало поводов.
Сковорода каждый раз, в каждом своем диалоге уводит своих путников в глубь человека. Иной ракурс ему просто не интересен. Это путешествие за счастьем не имеет ничего общего с расхожими школьными представлениями – в виде ищущих счастья и не нашедших его некрасовских мужичков, отчасти лубочных, отчасти русских. В своем поиске счастья Сковорода восходит к классическому библейскому сюжету – притче о блудном сыне – и многочисленным его интерпретациям. Выбор более чем показательный: герои Сковороды не столько ищут счастья, идут за счастьем, сколько возвращаются к нему, обретая утраченное.
«Путник, обходя разные земли и государства, лишился ног, – рассказывает Григорий своим собеседникам еще одну поучительную и диковинную историю. – Тут пришло ему на мысль возвратиться в дом к отцу своему, куда он, опираясь руками, с превеликим трудом продолжал обратный путь свой. Наконец, доползши до горы, с которой виден уже был ему дом отца, лишился совсем и рук…» Так и остался бы он между камней мучительно и жадно взирать на благословенный и счастливый край. Но тут он увидел слепца, который шел еле-еле, постоянно сбиваясь с дороги. Разговорились. Слепец тоже излазил полсвета, да счастья так и не нашел, и теперь возвращался к отцу – наугад, в вечной темноте, по наитию. Узнали тогда оба, что они братья. Тогда слепой посадил на шею зрячего, но безрукого-безногого – и зашагал небывалый путник, из двух в одно составленный, к родному порогу…
Можно видеть счастье, но никогда не достичь его, взирая с завистью со стороны, подглядывая за ним в замочную скважину. Можно искать счастье, но никогда не найти дороги к нему. Такова суть рассказанной истории. И все дальнейшее повествование Сковороды есть попытка освободить человека от тщетных, скверных, бессмысленных и пустых желаний и оставить его с руками, ногами и глазами в счастливом краю, из которого, по светской глупости своей, он так пытается выбраться.
Но не дорожат дети мира своими чреслами и ищут разумом не истину, а все новые оправдания своих суетных страстей. И преуспели в этом изрядно. Библейский слог как старый лоскут, и ему не находится места среди модной современной пустологии, блестящей, суматошной, жаждущей крови, прописавшейся в телевизионной сетке, прибравшей к рукам воинствующие племена поэтов, писателей и философов, готовых создать какие угодно стереотипы и «правильные формулы».
Впрочем, и эта печаль биографа, перешагнувшего в электронный век, достаточно стара, как стара еще одна история, рассказанная Сковородой в «Разговоре пяти путников об истинном счастье в жизни».
Пять путников пришли в царство любви и мира, где нет ничего тленного, но все вечное, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания. Прошли они под прекрасной радугой, вышли к ним навстречу великим множеством бессмертные жители. Скинули с путников все ветхое и одели в новое тело и одежды. Сели странники у трапезы с ангельскими хлебами и новым вином. Но не веселы среди веселья были путники – некая тайная горесть сердца их угрызала. Отвели их к царю.
– Я прежде прошения вашего знаю ваши жалобы, – сказал он. – Вы сами горесть свою занесли сюда из враждебных земель…
Эта история, столь похожая на «Новую Атлантиду» Ф. Бэкона, была рассказана с одной целью. «Ах бедное наше знаньице и понятьице! – восклицает Сковорода. – Откуда эти бесы вселились в сердца наши?» И отвечает сам себе: «Враги твои суть собственные твои мнения, воцарившиеся в сердце твоем и всеминутно его мучающие».
«Человек – извечная жертва своих же собственных истин. Раз приняв их, он уже не в состоянии от них отказаться», – напишет спустя полтора века один из апологетов экзистенциализма А. Камю. Мир живет обманом и слепыми надеждами. Все силы и цвет человека уходят на «добывание условий» для счастливой жизни, и в этой охоте счастье забывается, теряется, уходит. И вот, на руинах своей биографии, «человек понимает, что провел столько лет лишь для того, чтобы удостовериться в одной-единственной истине» – ему не уйти от времени, которому, собственно, глубоко безразлично: был человек счастлив или нет. Выбора не остается – такова главная печаль и тоска философии ХХ века, вынужденной жить с ницшеанским знанием о том, что «бог умер», «бога нет», и спасать человека некому.
У Сковороды этой смертной экзистенциальной скуки нет, он еще полон решимости указать счастливый путь, он еще уверен, что святая Библия остается «врачебным домом», в котором особым спиртом – евхаристией – лечат горесть человеческого сердца. «Счастье наше есть мир душевный», – пишет он и готов выстроить этот мир заново, собрать все его счастливые крупицы. «Вседражайший сердечный мир подобен самым драгоценным камушкам: одна крошечка цену имеет, если станем его одну каплю щадить, тогда сможем со временем иметь целую чашу спасения».
И все же, всматриваясь в свой век, который жил идеалами прогресса и ел просвещением, он с иронией и грустью напишет: «Мы измерили море, землю, воздух и небеса; мы обеспокоили недра земные ради металлов, нашли несчетное множество миров, строим непонятные машины… Что ни день, то новые опыты и дивные изобретения. Чего только мы ни умеем, чего ни можем! Но то горе, что при всем том чего-то великого недостает…»