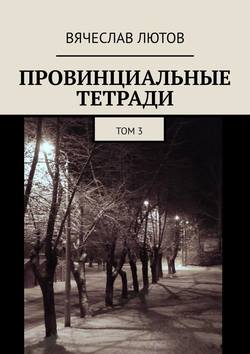Читать книгу Провинциальные тетради. Том 3 - Вячеслав Лютов - Страница 7
СНЫ ГРИГОРИЯ ВАРСАВЫ (2003—2005)
Коврайский житель
ОглавлениеЧеловечество, увы, не меняется с веками. Великие мысли великих умов с поразительной легкостью растворяются в серой повседневности, вне зависимости от времени и места, подобно многотомному грузовику на площадке Дэвида Копперфилда, оставляя место звенящей пустоте, напомаженной, блестящей, сверкающей. Не успели в России отпеть как следует идеологическую советскую эпоху, как первым голосом в хоре стало чванливое самодурство, украшенное побрякушками, золотым мусором, пакетами акций и пропусками в высокие кабинеты. «Золотой телец» прилизывает многих – положение обязывает и достаток требует.
«Пусть другие заботятся о золоте, о почестях, о сарданапаловых пирах и низменных наслаждениях, – пишет Сковорода в письме к К. Ляшевецкому и отвечает тем самым нашему суетному миру, – пусть ищут они народного расположения, славы, благоволения вельмож; пусть получат они эти, как они думают, сокровища, я им не завидую, лишь бы у меня были духовные богатства…»
Свой «набор сокровищ» имел и Стефан Томара, хотя от природы, как пишет Ковалинский, был наделен «великим умом». «Придерживаясь застарелых предубеждений» и глядя с презрением на все то, что «не одето гербами и не расписано родословными», он считал зазорным даже говорить с учителем своего сына и в течение целого года не удостоил Сковороду ни единым словом. Под стать была и супруга, в которой дурным гордячеством взыграла кочубеевская кровь ее предков.
«Чувствительным и болезненным было такое унижение человеку, в низкой простоте своей имевшему простое благородное сердце, – рассказывал биограф. – Так Сковорода терпел это все и, невзирая на презрение, исправлял обязанности свои добросовестно. Договор был составлен на год, и он хотел сдержать свое слово».
Возделывать сады ума в головах дураков – занятие безнадежное. Если Сковорода и не отказал сразу (а так он поступал не раз) – значит, была на то своя веская причина: юный Василий Томара. Он сразу привязался к философу «внутренней любовью», имел от природы острый и подвижный ум, так что Сковороде пришлось «только помогать природе в ращении направлением легким и нежным». Он не воспитывал и не перевоспитывал – просто вовремя подставлял плечо и подавал руку.
Григорий Варсава не ошибся в ученике, и сам ученик сохранил любовь к своему учителю до конца дней. Василий Томара станет и посланником в Константинополе, и сенатором; он достигнет вершин карьеры, но с этих вершин заглянет в темные глубины душевной бездны. «Вспомнишь ли ты, почтенный друг мой, твоего Василия, по наружности, может быть, и несчастного, но внутренне более имеющего нужду в совете, нежели когда был с тобой, – напишет В. Томара Сковороде в 1788 году. – О, если бы внушил тебе господь пожить со мною! Если бы ты меня один раз выслушал…»
Но пока, в 1753 году в Коврае, вышло недоразумение, обидная нелепость, глупость.
«Однажды, разговаривая со своим воспитанником и видя его любовь к себе, а потому обращаясь с ним откровенно и просто, Сковорода спросил его, что он думает о том, что говорили. Воспитанник в тот раз ответил неправильно. Сковорода возразил ему, что он мыслит об том, как свиная голова. Слуги тотчас донесли пани, что учитель называет их шляхетского сына свиной головой. Мать рассердилась, нажаловалась мужу и требовала мести за такое оскорбление. Старик Томара, зная внутреннюю цену учителя, но поступая по настоянию жены, отказал ему в доме и должности и, впервые заговорив с ним, сказал: «Извини меня, пан! Мне тебя жаль!..»
Свою отставку философ воспринял сократически: «если так произошло, значит так угодно богам». Он снова остался ни при чем; он совершенно не знает, что ему делать. Между тем, никакого потрясения перед открывшейся ему неизвестностью Сковорода не испытывает, не впадает в панику (как это случилось бы со многими из нас), и тем более не ищет суматошно нового места. Он вообще, по словам В. Эрна, «мало интересуется этим вопросом» – что же делать дальше?
Примером тому может служить поездка Сковороды в 1755 году в Москву, в Троице-Сергиеву лавру. «Тут неожиданно представился ему случай», – так в который раз маркирует перемещения Сковороды Ковалинский. «Какой-то приятель его (Владимир Каллиграф, преподаватель Киевской академии) уговорил его ехать в Лавру», – так излагает этот случай В. Эрн.
Кто кому подвернулся под руку – Каллиграф Сковороде или Сковорода Каллиграфу – не имеет никакого принципиального значения. Важно лишь то, что никаких особых дел в Троице-Сергиевой лавре у Сковороды не было, и поехал он в Москву, скорее всего, как раз от нечего делать, праздно, бесцельно (хотя и не бездумно).
Эту поездку бывшего коврайского жителя в лавру не без основания называют «искушением церковной карьерой».
Настоятелем лавры был «многоученый Кирилл» (Ляшевецкий), который со временем станет близким адресатом Сковороды. «Сей увидал Сковороду, которого знал уже по слухам, – пишет Ковалинский, – и нашел в нем человека необычайно одаренного в учености, старался уговорить его остаться в лавре для пользы училища».
Сковорода отказывается – ни к чему иному, собственно, бесцельная поездка привести не могла. Не успев приехать, философ уже жгуче тоскует по родному краю. К тому же занятия поэзией кажутся ему более привлекательными, чем преподавание в академии. Любая «деловая привязанность» его тяготит, «думы трудны» и «города премноголюдны» его не прельщают. Что же до монашества, то стоит ли быть настолько безрассудным, чтобы «с безделицы» принимать подобные решения?
Он возвращается – по иронии судьбы, в тот же Переяславль, в те же Ковраи, к тому же Томаре…
Возвращение вышло почти детективным – по меньшей мере, некоторые черты классического жанра сохранились.
«Не успел Сковорода приехать в Переяслав, как разумный Томара поручил своим знакомым уговорить его, чтобы он снова нанялся учителем его сына. Сковорода не соглашался, зная его предрассудки, а еще больше его домашних, но приятель его, упрошенный Томарой, обманом привез его, спящего, ночью в село».
В этом рассказе можно услышать отголоски Третьего Литовского устава 1588 года, который еще распространялся тогда на Украину и согласно которому помещик мог объявить своим крепостным любого, кто хотя бы несколько лет прожил в его имении. Скажем сразу: Томара подобной каверзы не готовил. Ю. Барабаш, приводя эту версию, четко оговаривает, что Сковороде, коврайскому изгнаннику, ничего не грозило, ничто не мешало ему уехать в любой момент, если бы он почувствовал какую-либо опасность.
Так что тайна ночного происшествия – в обычной ночной дороге. Случай, ни к чему не обязывающий – даже в пределах нашего повествования…
«Старый Томара (которому, кстати, тогда исполнилось лишь 35 лет) уже не был тем гербовым вельможей, а ласковым дворянином, который желал ценить людей по их внутренним достоинствам», – рассказывал Ковалинский, рисуя вторичное пребывание Сковороды в Коврае в несколько «розовом цвете». При этом он даже не оставил никакого намека на те обстоятельства, которые привели Томару к столь чудесному перерождению.
Предположений можно делать много. В. Эрн, к примеру, глухо говорит, что в жизни Томары «случилось что-то важное», что «гербовая спесь слетела с него от какого-то жизненного удара». Что это был за удар – на то нет никаких указаний. Вряд ли речь могла идти о каком-либо трагическом событии в его жизни или в жизни его семьи – благо, все живы-здоровы. Скорее всего, над Томарой попросту посмеялись, причем, тем смехом, который перечеркивал гордую карамазовскую исповедь и который был так страшен. На каждое гордячество есть своя насмешка – убийственная, обидная, злая. Выставить Томару дураком не составило бы особого труда – ведь в его доме находился не школяр, не недоучившийся спудей, какого можно шпынять по делу и без дела, а человек, чьи знания и ученость были признаны многими известными людьми того времени и кем нельзя было разбрасываться направо и налево.
Сковорода был нужен Томаре – пусть для престижа, пусть для реноме; пусть подобно золотой бляхе, перстню на пальце или цепи на шее – зато на своей…
Как бы то ни было, Томара «дружески его обласкал, просил быть другом его сына и наставлять его в науках». «Любовь и ласковое обхождение, – продолжает Ковалинский, – всегда сильно действовали на Сковороду. Он остался у Томары с искренним желанием быть полезным, без договора, без условий…»
Собственно, большего от Томары и не требовалось. Сам того не замечая, не зная, он открыл путь Сковороде-философу.
О, дубрава! О, свобода! В тебе я начал мудреть,
В тебе моя природа, в тебе хочу и умереть…
Лучший дар человеку – тишина жизни. Ее и искать-то специально не нужно – «всюду тебе даруется». Но мы упорно предпочитаем мчаться, бежать за нею; мы ищем ее в суматохе и сами становимся суматохой; наши мысли вразброс, как горох на полу. «Пора угомониться! Иначе тебе не придется прочесть ни твоих воспоминаний, ни деяний древних римлян и греков, ни тех отрывков из писателей, которые ты отобрал себе под старость».
Так наставлял Сковороду Марк Аврелий, так приводил его к стоической школе.
В определенной мере справедливо, что философия рождается из успокоенной, угомоненной праздности, из мерного течения времени; что она рождается в светлых рощах под шелест осенних листьев, под шум дождя, «под музыку серебряных спиц» и изумрудной воды. Она рождается из умного созерцания – достаточно философу «предметно созерцать и мыслить», как скажет много позднее Сковороды Иван Ильин.
Обновленное коврайское житье складывалось для Григория Варсавы хорошо, может быть, даже счастливо.
«Часто в свободные от своей должности часы он направлялся в поля, рощи, сады для размышлений. Рано утром заря становилась спутницей в его прогулках, а дубравы – собеседниками его глумлений».
Одиночество располагало к этим «глумлениям» – размышлениям. Ковалинскому это настроение Сковороды передавалось в эпикурейской традиции – нрав своего учителя он называл беспечным, которому чужды треволнения мира, но дороже радостный покой природы. Хотя мир прорывался в этот сад. Сковорода, как и любой другой человек, вынужден был искать «какое-нибудь состояние в жизни». Он искал, но не находил – ни в суетном мире светских забот и забав, ни в монашестве, которое представлялось ему «мрачным гнездом спекшихся страстей», ни в женитьбе, которая хоть и «одобряется природой», но связывает человека накрепко, ибо жена – не лапоть, и с ноги не сбросишь.
«Не выбрав себе ни одного из состояний, он твердо положил на сердце, что снабдит свою жизнь воздержанием, малодовольством, целомудрием, смирением, трудолюбием, терпением, благодушием, простотой нравов, чистосердечием, оставив все искания суетные, все попечения любостяжательства и трудные излишества».
«Утешение и радость, радость и сладость, сладость и жизнь есть то же», – напишет Сковорода позднее, в 1776 году, в книжечке «Икона Алкивиадская»; напишет, словно вспомнит коврайскую безмятежность. Вспомнит и Цицеронова Катона, который «любил в старости пирушки, но растворенные насыщающими сердце мудрыми беседами, начертающими не видимую нигде, а прекрасную ипостась истины, влекущей все чувства и услаждающей…»
«Живи сейчас», – так переводит эту сладость стоик Сенека. А Сковорода упомянул о ней, как упомянул и о платоновской «сладости истины». С этим и жил тогда, в конце 1750-х годов, в Коврае. Жил безмятежно, почти безмятежно…