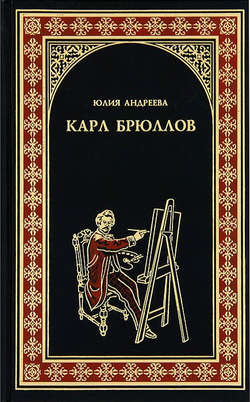Читать книгу Карл Брюллов - Юлия Андреева - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Эдельвейс
Глава 3
Оглавление– …Пальцы синели и застывали вроде куриной лапки, невозможно держать кисть, размотать крест накрест стягивающий грудь пуховой платок, а ведь художник не должен сутулиться и крючиться перед мольбертом. – Продолжает Карл начатую историю.
Я снова на своем боевом посту за письменным столом с пером в руках.
– Во все времена художники и скульпторы одевались в просторные кофты, подбирая волосы под берет, ермолку или повязку. Свобода в движениях и сила, чтобы долгие часы удерживать палитру и проводить четкие, единственно возможные линии, наносить верные мазки. Слабые руки тренируют длительным удерживанием тяжести, но невозможно писать, будучи закутанным в шубу и платки точно уличная торговка пирожками!
Нет, решительно нет! После работы я могу облачиться в партикулярный сюртучок или гаррик[5], могу надеть фрак, мундир или… а черт… но когда я пишу, ничто, ты понимаешь, ничто не должно давить на меня и мешать. Я просто не имею права отвлекаться от работы, думать о постороннем! Впрочем, чего это я раздухорился? – Карл виновато улыбнулся. – Должно быть, вспомнил ту форму, ребята были за нее мне признательны, особенно те, кто не имел лишней одежды вроде Федьки Иордана, представляешь, изгваздать единственный сюртук?… помню в Италии, бог весть в каком заплеванном городишке, я как-то проснулся совершенно без средств, да еще и запертым в жутком клоповнике отчего-то носящем гордое имя – «гостиница». Я был голоден, зол, у меня было похмелье, а хозяин все твердил, что не выпустит меня без оплаты, даже если я испущу дух на его прогнивших кроватях. С неделю я переругивался с ним через окно, требуя, чтобы он принес мне поесть. Конечно, я мог выпрыгнуть во двор и только бы меня и видели, но чертов разбойник воспользовался моим состоянием и пока я дрых забрал все ценные вещи.
Дурацкая в общем история, если бы не ее финал. В начале рядом со мной была некая черноволосая красавица, но затем… а впрочем, химеры обычно покидали меня одновременно с деньгами. Потом я сидел голодный и злой, не зная, как подать весточку брату в Рим, как выбраться на волю? Живот подводило от голода, голова кружилась, горло саднило от бесполезных криков, когда дверь в мою темницу неожиданно открылась, и я обрел свободу!
Поначалу я не понимал, что произошло, и по наивности предположил, будто бы хозяин вдруг изменил решение, но мог ли это сделать человек без сердца? Через некоторое время я все же навел справки и выяснил, что заплатил за меня совершенно незнакомый мне тогда русский путешественник в чине полковника. Ну? Догадался? Александр Николаевич Львов. Седьмая вода на киселе нашему Оленину, и давний знакомец моего отца и старших братьев Федора и Александра!
Впрочем, это я что-то далековато забрался. Не знаю, теперь как и развернуться, может ты чего спросишь для затравки, а дальше я уже сам бы разогнался. Как говаривала моя матушка, «Карл не друг писания». Так это она в самую точку. Не писать я, говорить пиром обожаю. Не то что брат Александр – вот кто горазд словесные картины живописать, и про пожар базилики святого Павла, и о похоронах папы Пия VII и о чем изволите, и главное все так складно, точно не письмо, а книгу или статью в журнале научную читаешь. Сестра Маша первенца Сашкой назвала, в дядину честь, а я что… не горазд я в письмах виды то описывать. И хоть Италия мне домом вторым показалась, а ведь скучал я по ним всем, сижу бывало один одинешенек, и гулять по жаре не тянет, и делать особенно нечего, хоть волком вой. Одна радость, когда во двор детишки соседские поиграть прибегут. Все времена вспоминал, как маленькие Павел и Ванька точно котята резвились да мутузили друг дружку. Вот думаю, хоть бы еще разик полюбоваться на их забавы, да послушать, как они шумят, да работать мешают старшим, дьяволята. Казалось бы – такая радость! И Кикину писал, точно говорил с ним, просто, по душам. Вот также как теперь с тобой. За бокальчиком молодого вина сладкого, точно поцелуй прекрасной незнакомки, или кислого, что бодрит словно поток горной реки… говорить с ними хотел все время, от того, про себя постоянно говорил, спорил, даже обижался ненадолго. Надолго-то я дуться не умею, отходчив.
Но, может, про письма и не надо, впустую это. Может лучше ты объяснишь, что я и в правду не мог поднять руки на любимую женщину, тем более всякие гнусности… про нас художников, каких только притч не слагают, и многие, надо отдать должное, верны. Но, только юность и пылкость в карман не запрячешь, а коли запрячешь, то не они это и были. А итальянки – у-у-у, эти чертовки слабину нашего брата нутром чуют, своего не упустят. Потому как давно известно, коли приехали художники из России, то при деньгах, и все-то им интересно, все в новинку, и как виноград зреет, солнцем наливается, и как волынщики от дома к дому ходят, у изображений девы Марии останавливаются, играют, как стада идут по улицам, как поют, как танцуют на вакханалиях.
Приехал русский пенсионер – подай ему сыра и вина, горячую красотку, самую черную, самую веселую, не нарисует, так амур закрутит. Дело-то молодое. Все итальянки лукавы, неверны и безбожно прекрасны. Чуть зазеваешься – червонцы тю-тю, а ее уж и след простыл.
Кипренский Орест Адамович убил как-то итальянку. Про то все знают, но судебного разбирательства не последовало, потому как он сразу же отбыл в Петербург. Не один поехал, с кем? покамест умолчу, и не записывай этого бога ради, это же я так по дружбе. Уехал Кипренский и правильно сделал.
Сам я лично покойницу не видел, но народ говорит, а народ зря говорить не будет. Пил он сильно, должно быть под этим делом и…
Брат Федор писал к нам с Александром, будто в столице Кипренского приняли холодно. Сразу же устроили выставку в Эрмитаже, но то ли ожидали от него большего, то ли… в общем Федор сообщает, что теперь над Кипренским принято подшучивать, и за его спиной распространять побасенки, так что даже Оленин, Крылов и Гнедич от него отошли, и забавой всеобщей этой совершенно не гнушаются. А те, кто прежде с ним знался и был накоротке, нынче отказали в общении за его нескромность. И Кикин меня еще предостерегал, чтобы со мной чего-нибудь подобного по природной горячности моей не произошло.
Так что совсем бы пропал Орест Адамович, если бы Шереметьев его у себя не пригрел[6], да после Дельвиг из альманаха «Северные цветы» в гости не заявился, и не предложил ему Пушкина писать. Александр Сергеевич как раз возвратился из семилетней ссылки, и был душевно рад знакомству.
Так что, получается, что после убийства Кипренский поспешил в Петербург, где портрет Пушнина намалевал, и сделал сие более чем хорошо и достойно всяческих похвал! «Себя, как в зеркале, я вижу»… м-да… И теперь уже все с восторгом смотрят на портрет поэта, и давно позабыли про итальянку.
Моя картина «Итальянское утро» шла из Италии в Петербург два долгих года и была хорошо принята, отправлена на выставку и затем подарена от имени Общества поощрения художников государю, а уж тот в свою очередь переподарил ее императрице. Мне же в качестве вознаграждения был пожалован бриллиантовый перстень, и пожелание государыни, непременно иметь еще одну в том же роде ей под пару. «Журнал изящных искусств» по поводу «Итальянского утра» писал: «Желаю от всей души г. Брюллову, чтобы ПОЛДЕНЬ его искусства был достоин своего прекрасного УТРА»!
Карл замолчал и я воспользовавшись паузой задал интересующий меня вопрос.
– Ты говорил о президенте Академии Оленине, но промолчал об учителях, в то время как известные, знаменитые имена учителей, добавляют доверия к особе учеников? Впрочем? – Мне вдруг сделалось стыдно – Карл гений и сам по себе, гений без всяких академий, семейных традиций, без учителей и школ. Более того, он всегда принадлежал к тем редким вольнодумцам, которые не пытались повторить античный идеал, а искали в живописи нечто новое, свое, то, что требовал их беспокойный норов. Но, вопреки ожиданию, Карл нисколько не обиделся и тут же поспешил сообщить мне, что его первыми учителями в Академии были художники: знаменитый Алексей Егорович Егоров и Андрей Иванович Иванов, иконы которого, составили убранство таких церквей Петербурга, как Казанский и Преображенский соборы, а также есть в Конюшенной церкви, в церкви Почтамта и Михайловского замка.
Впрочем, перечитывая собранный материал, я понял, что был невнимателен к Карлу с самого начала, особенно, когда он рассказывал о том, как его наставник Андрей Иванович Иванов, купил через знакомого удостоенную медалью картину Карла «Нарцисс».
– Перед поездкой я еще лелеял мечту жениться на дочери Андрея Ивановича Марье Андреевне, и просил ее руки, но… увы… Многим позже мне передавали, будто дочка моего профессора в салоне N будто бы говорила, о том, что уже тогда почувствовала любящим сердцем, что коли согласится и свяжет меня узами Гименея, после горько пожалеет об этом, ибо сделавшись семейным человеком, я буду больше думать о хлебе насущном, и ни за что уже не создам всего того, что милостью божьей создал. Будто бы было ей явлено во время гадания, вся жизнь моя без нее и также отдельно с ней, все в преярчайших подробностях. Долго плакала, перебирала «за» и «против», пытаясь саму себя или богиню судьбы обмануть, в цене сговориться, сторговаться. Ночь прошла в бесполезных торгах, и к утру, наплакавшись вволю, дала она мне отворот поворот, дабы сослужил я службу отечеству, летал на крыльях своего гения, без вериг и оков, но свободный и счастливый.
Не знаю, можно ли сему верить? Но в Рим я уезжал впервые испытав горечь отказа, в твердом намерение превзойти всех, дабы вероломной Марье Андреевне было бы впоследствии обидно, что потеряла такого человека.
Ой, опять сбился, о чем это я право начал? Об учителях, кстати, к Иванову-то я к первому с визитом заявился. Из Италии я через Малороссию возвращался, затем Москва, там еще пожил малость, а потом сразу же к любимому наставнику. С Егоровым уже в Академии встретились, а к Андрею Ивановичу в первую очередь, к слову, мне же с ним еще о сыне его потолковать нужно было. Сын-то… Андрея Ивановича художник каких мало, и хоть и разбросала нас судьба и в последний год не общались мы с ним вовсе, а все же, как вспомню его «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине»… да…
Теперь Егоров. – Карл затих на мгновение, прислушиваясь к голосам и смеху на лестнице, должно быть дети возвращались с прогулки, – Алексей Егорович азиатского происхождения, сирота роду племени не знавший. Впрочем, уже сама его внешность была необычна для русского человека. Детство Алексей Егоров провел в Воспитательном доме, сохранив в памяти единственное яркое воспоминание ранних своих лет – шелковый халат, расшитые стеклярусом сапоги, да кибитка. О чем он рассказывал неоднократно, так как других воспоминаний детства у него не водилось. Впрочем, что говорить, когда он даже имени своего настоящего не ведал, был крещен в православную веру и записан Алексеем.
Прилежно учился в Академии Художеств у художника Ивана Акимовича Акимова, причем туда его взяли сущим младенцем, небывалый случай – всего шести лет отроду, но Егоров быстро приобрел славу лучшего рисовальщика, упроченную медалями и по окончанию был определен преподавателем туда же. Через три года получил звание академика, и еще через три был отправлен в Рим, где сделался страстным поклонником и самым преданным учеником великого Камуччини. Впрочем, и сам Егоров вскорости снискал звание великого русского рисовальщика, получая за свои листы столько золота, сколько можно было уложить на них. Можно было остаться в солнечной Италии, но художника влекла ставшая родной ему Академия. Поэтому он не задержался в Риме, и вернувшись в Петербург очень быстро снискал новых славы и почестей. Сам император Александр велел прибавлять к его имени титул «Знаменитый», впрочем, последнее скорее смущало нежели радовало скромного мастера.
Его ученик Андрей Иванов имел судьбу многим сходную с судьбой своего знаменитого учителя. Тоже сирота, подкидыш, детство которого прошло в московском Воспитательном доме, позже поступил в Академию Художеств в Петербурге. Называл своими учителями и духовными родителями Угрюмова, Егорова и Шебуева. По окончании обучения в 1792 году получил Большую золотую медаль за картину «Ной по выходе из ковчега приносит жертву богу», а также аттестат 1-й степени на звание классного художника. Был оставлен пенсионером при Академии для «вящего в художествах познания». Преподавал и с 1800 – получил звание «назначенного», и еще через три года – звание академика за картины «Адам и Ева с детьми под деревом после изгнания из рая» и «Христос в пустыне». Много копировал старых итальянских мастеров XVII века Доменикино, Карраччи, Гвидо Рени, но самое главное, как мне кажется, его тяга к отечественной истории, желание воспевать героев отчизны. – Карл поднялся и прошелся по комнате. – Помню, много говорили о его картине «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году». Следование классической школе, идеальная правильность линий, сейчас бы его назвали пожалуй устаревшим. Но зато сам сюжет! Впервые ее выставили для всеобщего обозрения в 1810 году и помню что в то время она потрясала смелостью и новизной сюжета. Летописец Нестор писал о подвиге безымянного юноши, который выбрался из осажденного Киева, прыгнул в воду, переплыл Днепр и позвал на помощь.
Андрей Иванович посещал заседания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, после которого неизменно красноречиво и пламенно наставлял своих учеников силой искусства пробуждать добрые чувства в сердцах сограждан. При этом он бурно жестикулировал, краснея лицом и иногда начиная заметно задыхаться. Речи густо перемежались стихами:
Друзья! гоняться за мечтою,
За тенью призраков пустых,
За честью – ложной суетою —
Есть участь лишь невежд одних!
Блистать богатством, орденами,
В архивах предков вырывать,
Гордиться титлами, чинами,
В сатрапских негах утопать —
Пускай они одни стремятся,
Мня счастье в том свое найтить,
Пускай вкруг их льстецы толпятся
И слух их тщатся обольстить[7].
– Не помню, как там дальше… но, в общем, настроения были именно такие. Через два года 12 июня 1812 в ночь войска Наполеона с песнями и прибаутками переправились через Неман, триста всадников в сопровождении полковых музыкантов. Французы шли словно на грандиозный праздник, на короткую и победную войну. – Просчитались.
Патриатически настроенный свет начал демонстративно отказываться от знаменитых на весь мир французский соусов и вин, предпочитая русскую кухню. Стремительно менялась мода… молодые люди зачастили на балы с оружием, показывая тем самым, что не расположены танцевать и развлекаться, в то время, когда над страной нависла беда. Теребенев забыв про свое призвание скульптора принялся малевать так называемые народные картинки из окружающей жизни, которые выставлялись в окне магазина, куда поглазеть на новинки неизменно являлись толпы любопытных. Мы – мальчишки обязательно прибегали к заветной витрине, поглазеть не выставят ли новенькое, и запомнив до деталей, пытались перерисовать позже по памяти. У кого были мелкие деньги, тут же выкупали копии себе на память.
Наполеон плясал, поощряемый кнутом русского крестьянина, гордая тройка выбрасывала захватчиков из саней, не желающий носить клейма крестьянин – к ужасу французов отрубал собственную руку.
Картинки можно было приобрести черно-белые и уже раскрашенные, последние стоили, понятное дело, дороже, так что многие учащиеся тут же нашли для себя заработок, разукрашивая Теребеневские картинки.
Учителя и воспитанники Академии должны были отправиться в тыл, но в результате туда поехали только заколоченные ящики с гипсовыми слепками и картинами. Впрочем и те, добрались лишь до реки Свири, где зазимовали, а весной, когда сошел лед, благополучно вернулись обратно.
Денис Васильевич Давыдов блестящий, потомственный офицер, чуть было не пропустил первую войну с Наполеоном. Так как его гусарский полк должен был оставаться в резерве. Его брат Евдоким, оставив службу, поступил в кавалергарды и снискал славу под Аустерлицем, где был тяжело ранен (пять сабельных, одна пулевая и одна штыковая раны) и попал в плен. Все европейские газеты писали о русском пленном, навестить которого явился сам Наполеон!
Денис Васильевич же, хоть и не уступал брату в храбрости и желании послужить отечеству, был вынужден бездействовать. Согласно легенде в ноябре 1806 года ночью Давыдов пробрался к фельдмаршалу Михаилу Федоровичу Каменскому, назначенному в это время главнокомандующим русской армии где упрашивал его, отправить полк Давыдова на фронт, или даже послать туда одного только Дениса Васильевича. Должно быть, запал ночного визитера был настолько велик, что к утру главнокомандующий спятил. Повязав голову бабьим платком и накинув на плечи заячий тулуп, он вышел к войску со словами: «Братцы, спасайтесь кто как может…».
Позже Денис Васильевич много раз бился с французами, мечтая об одном, встретить Наполеона. Это произошло в Тильзите, во время заключения мира между французским и русским императорами.
По мнению самого Дениса Васильевича, любивший его Багратион специально сказался больным, приказав Давыдову быть вместо него.
Отец видел Давыдова, когда тот приезжал в Академию, с первой войны привез орден Святого Владимира IV степени, бурку от Багратиона и трофейную лошадь. А также был награжден орденами и золотой саблей. Давыдов был подлинным красавцем, эдаким любимцем Марса, но, отчего-то отцу он запомнился своей веселостью и неподдельной простотой. Например, когда его спросили, каким предстал перед ним Наполеон в их встречу в Тильзите, Денис Васильевич ответил: «маленьким». И не без гордости добавил: «гораздо ниже меня». И еще по его словам, в ту памятную встречу, они сразились в гляделки. То есть таращились друг на друга, пока Наполеон первым не отвел глаз.
Кипренский дивно изобразил лейб-гусарского полковника Давыдова, впрочем, ему всегда удавались портреты сильных личностей.
– Хватит про Давыдова, причем здесь Давыдов?! – Наконец не выдержал я.
– А и в правду, при чем? – Карл беспомощно улыбнулся, разведя руками. – В памяти всплывают фигуры, хочется спрятаться, защититься, что ли… черт. – Ты уж прости меня Петечка, Петр Карлович, я ведь теперь пред тобою, все равно что в церкви на исповеди. Как на духу все готов рассказать, но вот только, что нужно, а что и лишнее? Скажи, брат, а дома ли несравненная Уленька? Что-то давно я ее не видел?
– Дома, куда ей деваться, чай попросим, и придет.
Запись в альбоме Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании, сделанная Карлом Брюлловым:
«Нет, так жить больше нельзя! Есть только один дом в Петербурге, в котором я отдыхаю средь блаженства и мира. Это ваш дом, где царит прекрасная Уленька… Ах, как же я завидую тебе, Петруша!»
– И то отрада, а я грешным делом уже подумал, не прихворнула ли, не дай бог. Так о чем еще рассказывать? Или, может, довольно? Как полагаешь, о чем будут спрашивать?
– Расскажи про Аделаиду. – Я отложил перо, разворачиваясь лицом к вдруг притихшему, и как будто бы даже уменьшившемуся в размерах, Карлу. – Если конечно это можно? Тоже ведь спросить могут, надобно заранее быть готовым.
– Ну да, ну да. Ты ведь у нас человек военный, ты должен стратегию и тактику противника учитывать, а тесть мой непременно вспомнит про Аделаиду Демулен. Только тут уж и я отпираться ведь не стану. Что было – то было. В общем, сия француженка досталась мне, как бы это лучше выразиться, по наследству от русского пенсионера, художника и большой умницы Сильвестра Щедрина, прославившегося своими итальянскими пейзажами. Собственно он, до последнего работал таскался по жаре, пока черная желчь с кровью не пошла у него горлом. Все боялся остановиться, по русской привычке, погоду упустить, только погода в Италии совсем иное, нежели в Петербурге или скажем в Москве, почти всегда солнечно и прекрасно. Всякий день удобен для желающих выехать на пленер. Каждый день, даже после обильных возлияний, солнце ловил, сам уже желтый весь ходил, даже белки глаз желтые, от этого самого солнца итальянского, не иначе. Знал, что умрет, и все одно, остановиться не смел.
Вот тогда-то в Неаполе и передал он мне записочку с адресом прекрасной Аделаиды. Мол, вот тебе брат Карл моя француженка, позаботься о ней, когда меня не станет.
Француженка! Одно только это «француженка» голову кружило. Несся к ней в наемной карете, передать, что болен Сильвеструшка, а сам точно на крыльях любви. Нежная… бледная, хрупкая, акварельная… ей не следовало меня так сильно любить. Я ведь жениться не собирался, и в верности не клялся, с нее ничего не требовал. Мне во все времена без венца сподручнее что ли было. Ренонс[8], впрочем, тебе не понять. Закружил хоровод наяд, тянет то ли к солнцу, то ли в пучину, поди разберись… Тебе брат хорошо с твоей Уленькой. Добрая она у тебя, понимающая. Сколько раз с ней в карты играл, о жизни рассуждал. Клад – твоя Уленька, настоящий клад. Ты уж держись ее. Поговоришь бывало с твоей женой, и на душе полегчало, я от того у вас во все времена и люблю бывать, что тепло тут и покойно.
А вот мне для творчества бури нужны, впечатления, восторги! Аделаида, меня намертво хотела к своей юбке тульской булавкой с медным пистолетиком приколоть, не получилось с Сильвестром покойником, так она всю свою любовь нерастраченную вознамерилась на меня обрушить. Чтобы я под любовью той ни вздохнуть, ни повернуться уже не мог. А тут еще и Юлия…
В общем, писала ко мне Аделаида. Много писала, только я писем ее читать не желал. Потому как одно и тоже, все про Юлию гадости, мол, богатая женщина во все времена своего возлюбленного может счастливым сделать. Как будто бы мне деньги ее нужны были… я в то время уже «Гибель Помпеи» начал, отрываться ни на миг не мог, а тут, только поглубже в тему нырнешь тук-тук, «письмо извольте получить», – это слуга мой не Лукьян, а Пабло, да, тогда Пабло был, Лукьян – это уже по приезду, причем столь противным скрипучим голоском, хихикает подлец. Почерк знакомый распознал. Ей богу, прибил бы мерзавца. Я письмо в карман и к картине. Только более менее со светом определился, музыку мышц в ноге юноши постигать начал, ведь они – мышцы эти танцевать и петь обязаны, только так красоту тела и показать можно, только-только чуть-чуть в состояние нужное вошел, обратно письмо. Но теперь уже гостиничная горничная горбунья проклятая в мастерскую без спросу лезет. Как будто после этой уродины, я сосредоточиться на прекрасном могу!
Второе письмо в стол, или черт его знает куда, в угол, туда где листы с набросками, за софу мавританскую, куда угодно, лишь бы вдохновения не утратить, нить не потерять.
Аделаида Демулен утопилась в Тибре, очевидцы рассказывали, как она вышла из наемной кареты, медленно, решительно сняла с головы шляпку, тонкую шаль и прыгнула в воду. Я не был на похоронах, но вскоре узнал, что кто-то пробрался в мою мастерскую и выкрал ни рисунки и не готовые холсты, за которые можно было по крайней мере выручить деньги, пропали те самые письма. И теперь они не лежали брошенные мной как попало по мастерской, они ходили про меж моих друзей и недругов, обвиняя меня в преступлении, которого я не совершал. – Карл тяжело вздохнул, взлохматил шевелюру.
– Не помню, чувствовал ли я жалость к несчастной. Все мое существо сковывал ужас, перед той бездной, в которую теперь падала несчастная женщина, совершившей самый страшный грех. Заходил Торвальдсен, стоял и смотрел на то, как я работаю. С советами и расспросами не лез. Самойлушка Гальберг пытался развеселить на свой лад, метатель тяжестей Доменико Марини, по прозвищу Массимо – «великий» тщился утешить, рассказывая несмешные истории о своих бесконечных выступлениях по разным городам. Замелькали бутылки и мехи с винами, пьяные рожи собутыльников, и только великодушный и всепонимающий без слов князь Гагарин взял однажды меня за руку, посадил в карету и отвез в свой загородный дом в Гротта-Феррата…
В этот момент послышался дверной колокольчик и торопливые шажки по лестнице, шорох платья и сразу же после этого веселый смех и женские голоса. Карл напрягся, вслушиваясь в происходящее, глаза его заблестели. Он торопливо поднялся, оправляя одежду и спешно расчесывая пятерней всклокоченные волосы.
В следующий момент, пробормотав нечто нечленораздельное, Брюллов вылетел из кабинета, навстречу Уленьке и ее гостье.
Что же, должно быть пришло время устроить перерыв, а Карлу хоть немного отвлечься от его несчастий.