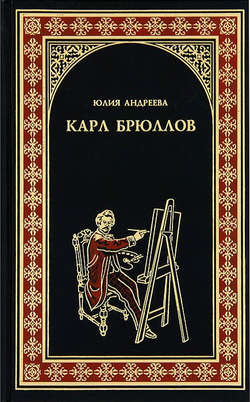Читать книгу Карл Брюллов - Юлия Андреева - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Эдельвейс
Глава 7
Оглавление– Выпускная золотая медаль давала право на поездку за границу с пенсионом. Штука более чем привлекательная, – начал Карл, едва я оторвал его от чаепития и призвал заняться делом. – Отчего же всякий учащийся Академии, да и не учащийся, но художественным делом занимающийся, – покосился в мою сторону, не обидел ли ненароком. Не обидел. Продолжает дальше, – отчего же все мечтают об этой командировке? Ради которой приходится отрываться от всего привычного, от семьи, друзей, и приходится переть… – он несколько раз махнул рукой, как бы заранее зарекаясь рассказывать о превратностях судьбы и о тех неприятностях, которые в дороге путешественнику встретиться могут. – Но, дело в том, что по окончании Академии, что может ждать свободного художника? Если за время обучения он сделался знаменит, завел необходимые знакомства, или добрейшие учителя стремятся ему потрафить в этом деле, стало быть, будет он получать заказы от частных лиц или от обществ, малевать портреты возможно совершенно неинтересных ему людей, расписывать церкви, писать образа. А нет… начнет бегать по урокам, или пристроится к какому-нибудь художественному ремеслу – по дереву резать, ткани для театра раскрашивать, да мало ли что еще.
Пенсион для того и платят, чтобы ты о хлебе насущном не заботясь, учился и творил! Самое то свой почерк, свою индивидуальность выказать, чтобы потом уже и…
Одно плохо, в Европе в то время было ой как неспокойно. В Неаполе карбонарии (угольщики) устроили военный бунт. Некто Лувель во Франции зарезал герцога Беррийского, племянника короля Людовика XVIII, когда тот покинув зал парижской Оперы, собирался уже уехать домой. Герцог едва успел усадить супругу в карету. Поговаривали, что пронзая герцогскую печенку длинным ножом, Лувель держал жертву за шиворот. Что было сразу же отражено в карикатурном изображении, которое после тиражировалось во множестве.
Во Франции и Италии народ требовал конституцию, шествуя по городам с трехцветными кокардами карбонарских цветов (красного, черного и синего). Австрия наносила удары по неаполитанской армии, и в это же время над Турином поднялось и затрепетало в воздухе национальное знамя. Разбуженная князем Александром Ипсиланти Греция выступала против турецкого владычества.
В Испании Рафаэль Риего во главе батальона шел по Андалузии провозглашая конституцию. Был разбит, и с сорока пятью оставшимися от батальона воинами, засел в горах, ожидая, когда брошенная им искра разгорится в пламя, и когда это самое пламя охватит всю страну.
Мощные волны революционных взрывов достигли пределов отечества, взбаламутив мыслящую молодежь:
Друзья! нас ждут сыны Эллады!
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь горы, реки, грады!
Они нас ждут: скорее к ним!
Судьба, услышь мои молитвы,
Пошли, пошли и мне минуту первой битвы!
Приветствовал Вильгельм Кюхельбекер греческих повстанцев. Через три года, в июле 1823 Байрон оставит Италию, чтобы присоединиться к греческим повстанцам, ведущим войну против Османской империи за свою независимость.
И как раз в это время нашему выпуску угораздило закончить свое обучение, я посватался было к дочке моего учителя Иванова, получил отказ, а стало быть, рвался поскорее убраться из Петербурга, дабы снискать немедленной славы.
Не желая нарушать закона, но одновременно с тем понимая, что, отпустив такого человека как я заграницу, он невольно посылает меня в мир, в котором я либо сгорю заживо оказавшись на пути несущихся коней свободы, либо и сам примкну к карбонариям, украсив себя трехцветными поясом и кокардой, Алексей Николаевич Оленин оказался лицом к лицу с непростой задачей.
Карл снова покосился на меня, лукаво подмигнув. Дело в том, что ходили упорные слухи, будто бы ваяя коней для колесницы славы[10], я вложил в это произведение столько вольнодумия, сколько его не было ни в стихах сидельца Кюхельбекера, ни нашего общего друга, покойного ныне Пушкина. Впрочем, животные есть животные, и их не спросишь, на чьей они стороне, и какого мнения придерживаются об устройстве общества, желают ли конституции или ратуют за старый порядок.
– Оленин боялся, что меня либо убьют повстанцы, либо я, что не лучше, и сам заражусь бунтарскими идеями. – Продолжил Карл. – Поэтому он вызвал меня в свой кабинет, где в свойственной ему сдержанной манере объявил о невозможности отправить ни меня, ни Александра за границу прямо сейчас, предложив вместо командировки остаться еще на три года в Академии для дальнейшего усовершенствования. Практика более чем обычная.
Но и это еще не все, было принято решение, что всех медалистов этого года, Академия отдает под надзор исполнительного академического инспектора. Это было ужасно!
Возможно, следовало смириться, как смирились другие, как смирились Александр и уже давно дожидающейся своей очереди Федор, согласиться пойти под надзор, но попросить, чтобы этот самый надзор к примеру осуществлял один из любимых учителей: Иванов, Егоров или тот же Угрюмов, писавший на исторические сюжеты. Со всеми профессорами я был в приятных, или даже дружеских отношениях, и их надзор вряд ли перерос бы для меня в диктат и тиранию. Но… я уже сказал свое решительное «нет». Отступать было поздно.
С другой стороны, теперь я должен был слушать бесконечные попреки отца и выговоры матушки, для которых мой отказ Оленину – был мальчишеской глупостью и необоснованным бунтом. На счастье брат Александр как раз в ту пору пожелал отделиться от семьи. Давно, еще в Академии Саша склонялся к архитектуре, и теперь, живя под надзором профессора Михайлова создал проекты конюшен, фонтана, павильона у воды, а также был определен в комиссию по перестройке Исаакиевского собора с чином художника четырнадцатого класса и квартирой!
Вот эта-то квартира и манила меня больше всего, хотя вру, не только это. Еще возможность попробовать жить без матушки и батюшки, поглядеть на строительство, подышать свежей краской, полазить по строительным лесам… да мало ли что еще.
Так собрав свой скарб, который по большей части составляли ящики с красками, палитры, свернутые в рулоны чистые холсты, альбомы, карандаши, всевозможные чертежные приспособления и все что было пригодно для занятий живописью, мы переехали из дома на Средней линии Васильевского острова, к подножию перестраиваемого французом Монферраном собора.
Я не оговорился, сказав, что жить нам предстояло у подножия Исаакия. Дело в том, что для удобства прямо на площади были возведены временные деревянные мастерские, в которых жили и работали все те, кто трудился над этим проектом. Александру было выделено две комнаты, что нас вполне устраивало. Кроме нас во временных мастерских скроенных на манер длинных казарм жили рабочие, тут же были устроены склады и сараи, художественные мастерские и различные конторы, которые я уже теперь плохо помню.
Изначально рабочих планировали заселять из расчета по одному погонному аршину протяжения на человека, но в результате там, где было запланировано триста коек каким-то чудом было всунуто целых пятьсот.
Мастерская, где должен был служить Александр располагалась буквально у нас за стенкой, так что лишний раз задумайся, когда решишься с Яшкой Хмельницким домой притащиться, или привести в дом веселую девку…
Так бы я и жил у Александра, возможно, помогал бы ему чем мог, писал бы или сидел в кабаках да кухмейстерских с друзьями, но буквально через год после моего выпуска было организовано «Общество поощрения художников[11]«, возглавил которое статс-секретарь Кикин, которое и постановило отправлять молодых людей за границу на деньги меценатов. Первым пенсионером общество было решено сделать вашего покорного слугу.
Я поднял голову от листа, пытаясь понять, отчего Карл вдруг начал говорить со мной на вы, и только теперь приметил смирно сидящих у дверей Уленьку и Машеньку. Обе с замиранием сердца слушали Брюллова, боясь лишний раз вздохнуть.
Поняв, что они замечены, Машенька бросилась ко мне в объятия, а Уленька сообщила, что чай уже готов, и пироги в печи поспели. Так что мы тут же решили прерваться, дабы вкусить дивные Уленькини творения – пироги – круглые с капустой и яйцом, в виде изящных корзиночек с грибами и луком, и, наконец – венец творения, огромные ладьи – рыбники! Пряники – разной формы свежие, душистые. Этого добра в любой день навалом, в мастерской на особом столике под крышкой и платком от пыли, чтобы лишний раз никого не беспокоить, когда охота подкрепиться настанет. Недалеко от пирогов вазочка с красной икрой и масленка над которой возвышается гора желтоватого масла. Свиной копченый окорок, заранее нарезан ломтями никак не меньше чем в ладонь шириной.
Чай – только китайский, к нему топленые сливки нежно желто-розового оттенка, так и хочется зачерпнуть чайной ложкой и отправить в рот. Вкусно!..
Дети перешептываются, толкают друг дружку локтями, самостоятельно угощаются ароматными пирогами, прихлебывают чай со сливками, или сливки с несколькими каплями чая. Ни кто ни за кем не следит, ни кто ни кого не обслуживает. Волчку Кайзеру – всеобщему любимцу то и дело достаются щедрые куски со стола. Запретишь, дети специально начнут ронять пироги на пол, желая усладить серого.
Впрочем, какой там запретить, когда он умильной лоснящейся от чрезмерного чревоугодия мордой тычется в коленки, просительно заглядывая в глаза. «Покормишь?! Нет? от голода живот подвело и ноги трясутся». Конечно трясутся, эдакую тушу носить.
– У вас дома глобус есть? – С серьезным выражением лица интересуется у детей Карл.
– Есть, а как же! – деловито отвечает Жора. – Я только сегодня по нему с мусье занимался.
– Ан вот нет у вас больше глобуса, – пристально разглядывая круглые бока нашего вечно голодного зверя, – констатирует Брюллов.
Чай пить, да пирогами закусывать – любимое дело. Всем весело хоть и тесновато за большим круглым столом с вязанной скатертью. Но да не гнать же добрую няньку, привыкла поди за столько лет. Да и учитель Георгия ясное дело, непросто так на целый час после урока задерживается. Тоже понимать нужно. Ничего, в тесноте, да не в обиде. А дальше… кто-то из детей уже разведал, или прислуга проболталась, позже, ближе к вечеру изысканное лакомство – пирог с маком и медом, объедение.
– Маковый пирог? – Лукаво подмигивает Карл, сладкая тайна, по секрету переданная ему Машенькой, жаждет получить немедленного подтверждения.
– Он самый. – Я разламываю теплый рыбник, протягиваю половину Кайзеру. – Будет и еще кое что, – кошусь на детей, – позже, в кабинете, если не возражаешь.
Карл не возражает, не интересуется наперед, скромно ждет обещанного, как иной ребенок предчувствует рождественское чудо.
А тем временем, на холодке в подполе уже несколько часов томится черное портерного пиво по двадцать копеек серебром бутылка. Я оглядываю стол, ну и ловко же подчищает мое семейство всякого рода вкусности… буквально минуту назад думал захватить с собой пару грибных корзиночек, и рыбник для икорного бутерброда, ан, нет. Ничего, Карл уже сыт, и не откажется вкусить похожую на алые драгоценные камушки красную икорку на теплой булочке с золотой хрустящей корочкой, а не на горячем пироге, как это он предпочитает. Простит великодушно, когда увидит мою последнюю работу. А не простит, так надобно распорядиться, чтобы нянька достала буженины. Куда она прячет ее негодяйка?
Ну, все, перекус закончился, хлопаю себе по ноге, и волк поспешно заканчивает трапезу и встает рядом, чудесный зверь! Красивый и невероятно добрый. Вот с кем детям и в лесу сам черт не страшен. Волк у нас в семье с щенячьего возраста, деревенские дети притащили, да за несколько печеных яблок и продали. Поначалу думал порисовать его, да и отдать к черту лысому в цирк, а потом прикипел душой, полюбил.
Мы с Карлом возвращаемся в кабинет, я киваю прислуге Дарье, чтобы несла за нами пиво. Английское пиво – незаменимая вещь для задушевных бесед.
Пиво пенится в стаканах, темно-коричневое почти что черное, Карл пьет с чувством, делая выразительные паузы, точно актер на сцене. Когда-то его сравнивали с золотокудрым Аполлоном, но сегодня он всесильный, роскошный Бахус. Красавиц мужчина, титан, великий Брюллов.
– Август Августович издал подборку своих рисунков будущего Исаакия и пустил их в свободную продажу. Рисунки были хороши, и их покупали. С шумом и треском рухнула старая не вписывающаяся в новый ансамбль колокольня, французик раздавал подряды на разного рода работы. Говорили, что только на этом деле он получил свои первые тысячи, а может быть и миллионы.
Да, именно что миллионы, – поймал он мой недоверчивый взгляд. Во всяком случае, так следует из донесения подполковника Петра Борушникевича, возглавляющего комиссию по выявлению злоупотреблении на строительстве нового собора. А по его честным солдатским расчетам из пяти направленных на строительство из государственной казны миллионов, два растаяли бесследно.
Впрочем, кроме казнокрада Монферрана, там такие люди были задействованы… у-у-у… да одного только его сиятельства графа Милорадовича за глаза хватило бы, что бы все средства по гривеннику растащить, а то, что уже закуплено – продать. Честный подполковник сделавшись кляузником и вруном вдруг исчез неведомо куда. Словом был человек и нет человека.
Расширяли и укрепляли фундамент, рыли котлованы, вбивались сваи, разбирали старые стены и на их месте возводили новые. Зимой работали с пяти утра, летом с четырех утра до четырех дня.
Но тут другой француз Антуан Модюи сочинил ябеду на имя президента Академии Художеств, о том, что-де проект Монферрана содержит роковые ошибки, из-за которых здание, если каким-то чудом и будет построено, то вскорости рухнет.
Работы остановили, прислали новую комиссию. Тут же нашлись доброхоты, утверждающие, что клятый Монферран и не собирался строить собор на века, а только получить деньги и славу и затем… «пятьдесят мол лет простоит, а дальше»… а кому какое дело, что будет дальше, главное что его же – Монферрана уже всенепременнейши на свете не будет.
Комиссия признала проект неправильным, после чего за его доработку взялась Академия Художеств, и моему брату Александру стало нечем заняться.
И вот, как сейчас помню, работы по переделке Исаакиевского собора высочайше приостановлены 15 февраля 1822 года, а уже весной, я приглашен на собрание Общества поощрения художников, где меня уведомляют в том, что они готовы отправить меня за границу за свой счет, дабы я мог там усовершенствоваться в искусстве.
На что я не задумываясь согласился, однако при том условии, что вместе со мной на тех же правах и с точно таким же пансионом поедет мой брат Александр. Полагаю, милостивые господа не ожидали подобной дерзости со стороны еще столь мало проявившего себя молодого человека, но, поразмыслив, согласились, что Александр без сомнения будет полезен обществу, и как талантливый художник и архитектор, и что немаловажно – как та нянька, которая сумеет ненавязчиво приглядеть за эдаким чудом-юдом как я.
Берлин, Дрезден, Мюнхен, и далее Италия… изначально в списке значился Париж, но там было небезопасно. Небезопасно не столько для жизни, сколько для благонадежности юношей. Дословно это звучало так: «не подвергать нравственность свою и дарования: одну всем соблазнам порока, а другие – влиянию незрелых образцов новейшего вкуса». Особливо следовало держаться подальше от «центра революционной заразы» – Франции. Шутка ли сказать, каких идей могут набраться молодые люди, кем явятся они в отечество – новоиспеченными карбонариями, или верноподданными?