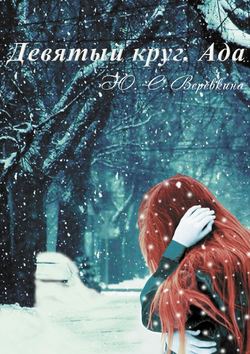Читать книгу Девятый круг. Ада - Юлия Верёвкина - Страница 9
Часть вторая. Птица не кричит
3
ОглавлениеКатя поставила на сушилку последнюю тарелку и нервно схватила со спинки стула махровое полотенце. Она долго тёрла озябшие пальцы, но кровь в них всё не шевелилась. Кутаясь в старую, ещё бабушкину, шаль, она пошла в комнату, по пути уменьшив огонь на газу – в кастрюле вяло булькал борщ – и передвинув солонку с края стола на её обычное место у хлебницы.
В спальне Максим сосредоточенно настраивал фотоаппарат. Менял объективы, хмурился, рывками бросался от полки к полке, крутил что-то, в чём Катя решительно не разбиралась. На груди чёрными змейками вились проводки наушников от плеера; он тихо мурлыкал себе под нос какую-то мелодию и иногда угрюмо вздыхал. Устало подходил к столу, делал глоток пива из банки, оценивающе смотрел на фотоаппарат и решал попробовать ещё что-то – тогда в его карих глазах появлялись золотистые искорки, а густые брови, сойдясь над переносицей, демонстрировали напряжение и сосредоточенность мысли. Даже по той, нормальной, жизни Катя помнила, что это может продолжаться весь вечер. О чём уж говорить теперь, когда техника на морозе работала всё хуже. Мускулистые Максовы руки – и бесконечные чёрные объективы…
Когда-то ей нравилось смотреть, как он, сосредоточенный и вдохновлённый, возится с ненаглядным аппаратом. Нравилась его захватывающая страсть – фотография. Но в то время он мог потратить целый день только на то, чтобы снимать её. Катя на кухне, Катя на диване, Катя читает, Катя смотрит в окно… Катя весёлая, грустная, задумчивая, нежная, раздражённая… Серия снимков Кати, различающихся лишь углом сгиба локтя… Волны волос по плечам, тень на щеке, капли воды, оставшиеся на запястье после мытья посуды… Тогда фотография и любимая женщина переплетались у него в нечто единое – такое, что и увлечением не назовёшь, так оно захватывало Макса. А теперь осталась только фотография. Вечера напролёт муж возился с техникой, слушал музыку, пил пиво – а если снимал Катю, это означало, что надо было проверить какие-то настройки. И новая Катя уже ничуть не походила на ту, неземную, прекрасную каждым жестом, каждым движением мимики; теперь объектив запечатлевал будничную и порой неуклюжую жену фотографа, а игра света и тени доставалась случайным знакомым, друзьям, моделям…
Катя молчала. Она делала иногда попытки вернуть его себе, но он раздражённо отмахивался: «Ты же видишь, я занят. Я вот тебе не мешаю». И она тихо заворачивалась в плед в углу дивана и всё смотрела в равнодушную спину. Иногда, так же молча, гладила в кухне. Она могла приготовить пустую картошку или сделать пиццу, сварить пельмени или испечь торт – Максим одинаково благодарил, вставал из-за стола и шёл в комнату, к своим фотоаппаратам, камере, компьютеру…
А иногда он уходил. Уходил, потому что – мужик, потому что имеет право попить пива с друзьями. А Кате оставалось смотреть в окно на холодный двор и разглядывать папки художественных фотографий, которые делал Максим.
Иногда Катя тоже уходила. Максим думал, что к подругам, и это не раз служило аргументом: «Я же тебе ни слова не говорю». Но Катя гуляла одна. Ей никто не был нужен. Она ходила по старому парку, непопулярному среди молодёжи: слишком заросший, заброшенный, лишённый примет цивилизации в виде палаток с пивом или закусочных. Зато здесь длинными, уходящими за грань видимости аллеями тянулись клёны, которые осенью всем изобилием и горечью золота шептали что-то про другую жизнь. И она чувствовала себя героиней старого фильма из тех, где ещё можно было быть одинокой, хрупкой и молчаливой. Она прокручивала в голове вымышленный клип и будто видела себя со стороны: серое небо, листья – или лужи – под ногами, и она одна бредёт неизвестно куда и зачем. Иногда ей становилось пронзительно, отчаянно тоскливо; она тогда проходила шесть километров до ближайшего бара и заказывала себе бокал вермута – но только если был свободен столик у окна, из которого видно фонтан. Бегущая девушка с разметавшимися гипсовыми волосами всё пыталась и не могла выскочить из небольшого грязно-белого бассейна, с бортиков которого её расстреливали четыре высоко взлетавшие струйки воды.
Кате нравились собственные немодные причуды, и она могла, глядя в окно, целый час цедить этот бокал за покрытым клеёнкой столиком. Равнодушный бармен иногда предлагал ей добавки; она всегда отказывалась. Как алкоголь, в ней бултыхалось жгучее желание убежать куда-то, резко поменять каждый поворот своей жизни – но хмель проходил, а тоска отступала глубоко внутрь. Катя вставала, расплачивалась и уже торопливо, ссутулившись и засунув руки в карманы, шла на остановку, садилась в первый троллейбус и ехала домой, прикидывая, что купить к ужину.
И пусть она весь день представляла себя в старом французском фильме, пусть передумала о всех городах, эпохах и человеческих характерах, пусть выхватила из внешнего мира что-то интересное или прекрасное – дома был вечно занятый Максим, менявший объективы.
Однажды Катя во время такой прогулки купила альбом и баночку с тушью – скорее просто по наитию, чем по осознанному решению. Она спрятала их в пакет между курицей и луком-пореем, а вечером, когда Макс ушёл, попыталась рисовать. Она хотела, чтобы всё было красиво: включила музыку, какую любила, приглушила большой свет и, устроившись под торшером, сделала несколько осторожных штрихов. В ней скопилось столько всего, что могло вырваться в прекрасные линии, – но рука подвела. Мазки были беспомощными, нелепыми, ужасно одинокими и напоминали детские каракули – но если в исполнении ребёнка они выглядят солнечно, как надежда и улыбка, то сделанные взрослым, вызывают лишь недоумение и жалость. У Кати задрожали губы. Она отшвырнула альбом и разрыдалась. То, что сидело внутри, не хотело выходить, будто надеялось задушить её неотступной тоской. Забившись под одеяло и выключив свет, она убеждала себя, что не всё сразу, что надо научиться… Но сколько ни предпринималось новых попыток, рука всё не слушалась. Линии так и оставались беспомощными, несчастными калеками.
Максим был из тех ребят, которых все любят. Такие легко сходятся с людьми: мужчины их уважают и говорят: «нормальный парень», а женщины обожают, восхищаются, в разговоре разводят руками: «Ну, Макс есть Макс…». Ему везде были рады, куда бы он ни пришёл. Он везде приходился к месту. Хоть раз видели его, казалось, все в городе – на работах друзей и знакомых, друзья знакомых, знакомые друзей… Его звали на праздники даже те, кто знал его лишь шапочно, – просто потому, что его присутствие было гарантом веселья. И правда: с Максимом не скучали. Он ухитрялся сказать что-то умное, с девушками держался дружественно, но успевал в шутливой форме пригоршнями рассыпать комплименты – небрежные, но остроумные и запоминающиеся. В общем, для Макса были открыты все двери. Директора городских телекомпаний предлагали ему зарплаты одна другой больше, когда он выбирал, куда идти работать. Он был профессионалом, видевшим кадр, едва переступив порог помещения, – и бесконечно обаятельным. Если ему случалось проспать, или забыть про что-то, или даже проигнорировать пожелания начальства, ему это охотно прощали. Он с лёгким пренебрежением слушал коллег, боявшихся нарушить заведённый на студии порядок: для него самого как будто не существовало ни режима работы, ни дисциплины, ни каких-либо иных обязательств, и среди других операторов и журналистов он шествовал со снисходительностью языческого бога, которому предлагают принести жертву на его собственном алтаре.
Катя несколько раз видела Макса на пресс-конференциях в гидрометцентре и с замиранием сердца изучала его: красивый, весёлый, остроумный – как такого не заметишь? Она видела, что вокруг него работают длинноногие красавицы с журнальной внешностью, и тосковала про себя: если с ними он лишь отшучивается, то её и подавно не заметит… Катя была хороша собой: правильные черты лица, большие серые глаза, густые каштановые волосы, ладная фигура – всё хорошо, но ничего такого, от чего мужчины оборачиваются вслед. Когда-то она мечтала о Максе ночи напролёт; не знала, как вместить в одну-единственную душу своё счастье, когда они действительно стали встречаться, жить вместе, сыграли скромную свадьбу… Два года Катя не допускала и мысли о недостатках Макса – у неё, как щит, была наготове мысль: «Кто ты – и кто он…» Она бережно, будто с китайского фарфора Х века, протирала пыль с его компьютерного стола; чувствовала себя кошкой, греющейся на осеннем солнце, когда тихонько сидела рядом с Максом, обрабатывавшим фотографии, – каждая была для Кати бесспорным шедевром. Она хранила газеты, публиковавшие его снимки, тайком переписывала на свою флешку всё новые работы мужа, чтобы точно сохранить их, если мастер вдруг решит одним нажатием кнопки вычеркнуть эти фото из своей творческой биографии.
Но потом выяснилось, что очень непросто жить рядом с популярным у всех и вся человеком; что очень непросто любить такого человека.
…Катя ушла на кухню и закурила. Ядовитые струйки дыма скользили по сознанию, а она тем временем задумчиво перечитала пришедшее на днях СМС. «Я снова в городе. Может, увидимся?» Подпись была неожиданной: этот человек внезапно, без видимых причин, выпал из её жизни несколько лет назад. И всё-таки имя под двумя предложениями вызывало только тёплые воспоминания. Катя неторопливо набрала предложенный номер.
Этот взгляд в никуда, одновременно сосредоточенный и растерянный, Катя узнала сразу: она просто не могла ошибиться.
– Ромка!
Повиснув на шее у крепко сложенного мужчины, в котором было теперь много чуждого, незнакомого – усы, хвост волос, бородка! – Катя рассматривала комнату за его плечами с тем же уютным чувством узнавания. Как много времени прошло – и как мало здесь изменилось. Улыбка Романа тоже хранила память о той, детской. Только вот когда он успел нажить эту острую морщинку между бровей? Серьёзный. Усталый. Задумчивый. И это с ним она воровала конфеты у соседки и на крыше дома мечтала о сказочной, сулящей столько возможностей взрослой жизни?
– Какая ты стала… – произнёс Роман, отстранив её от себя, чтобы получше рассмотреть, и Катя с горчинкой поняла: она тоже изменилась.
Час спустя, трижды подогрев чайник, они уже всё знали. Катя – что Роман, как и мечтал, стал священником, четыре года служил в храме на севере, но недавно покинул церковь, вернулся к матери и устроился в книжный магазин. Роман – что подруга детства предсказывает погоду и вышла замуж, о чём уже начинает жалеть.
– Короче, Катька, ничего-то у нас с тобой не получилось, – ухмыльнулся, подытоживая, Роман.
Девушка устало покивала.
– Знаешь, я ведь даже с парашютом прыгала. (Катя проигнорировала изумлённое: «Ты?!») Не помогло. Пытаешься себя вытащить, выплеснуть куда-то – и не выходит. Похоже, я в тупике. Банальность. Знаешь, женщине ведь правда не так много надо – лишь бы дома всё было хорошо. А если из этого дома бежать хочется… Уже диагноз. Хочется любить мужа, а получается – только кошку. А тут ещё снег. Скажу тебе как, блин, дипломированный специалист: ни черта не понимаю! Это вообще невозможно. То, что происходит, противоречит всему, что мы говорили на экзаменах. И никто не понимает, все только притворяются. Мне страшно. А когда человеку страшно, надо, чтобы кто-то его успокаивал – неважно, по законам логики или нет… – Катя печально улыбнулась и покачала головой. – Ладно, я себя могу жалеть долго – растягивая удовольствие… Ну а ты? Тебя-то что из церкви понесло?
Роман вздохнул, глядя, правда, не на подругу детства, а на скатерть.
– Кать, ты в колдовство веришь?
Катя встретила его вопрос достаточно красноречивым взглядом.
– Ну вот, я ему душу изливаю, а он стебается…
– Нет, я всего только пытаюсь ответить на твой вопрос. И зря смеёшься. Даже Большая советская энциклопедия трактует его как способность некоторых людей причинять различный вред или избавлять от него.
– И кто же тебя… так? – подбирая слова, спросила Катя.
Вместо ответа, Роман поднялся, достал из шкафчика бутылку коньяка, плеснул в чай и себе, и гостье.
– Что, Ромка, запил? – усмехнулась Катя.
– Запьёшь тут… Когда выйдешь из комнаты, а у тебя над головой… Ладно, неважно. То есть, ты говоришь, что у этого снега нет нормальных причин?
Катя серьёзно покачала головой.
– Ни малейших. Мистика какая-то.
От этого слова Роман поморщился.
– Да уж, мистика… Слушай, ты не смейся, но… Если бы тебе сказали, что есть… ну, или не то чтобы есть, а может быть… одна книга…
Катя слушала Романа с нарастающей тревогой.
– Какая ещё книга?
– Видишь ли… Когда выпал снег, я сначала подумал: докатились мы. Ты читала про Содом и Гоморру? Вот что-то в этом духе. Как бы это сказать… Во всех нас поселилось что-то неправильное. Нет, я не грехи имею в виду – они были всегда. Но у нас нарушилось ощущение жизни, мы её подменяем – ну, вроде как выбираем не малину, а жвачку с таким вкусом. Не уверен, что могу объяснять. Когда-то я рассказывал об этом одному человеку, и он… то есть она сказала, что, если следовать моей логике, конец света должен был наступить во времена Освенцима и ГУЛАГа. Беды, несправедливости, пороки были всегда, я понимаю. Но раньше у людей был Бог. А времена безбожия оказались столь страшны, что, наверное, это искупали… А сейчас у людей есть только они сами, и то не всегда.
Катя выслушала Романа несколько озадаченно. Вспомнился вдруг университетский профессор, который говорил, что залог просвещённого общества в том, чтобы в беседе обмениваться не информацией, а идеями. Его слушала полная аудитория девушек, и он привёл пример: не о том, кто какое платье купила, за кого вышла замуж или встретила на улице, а о том, как надо понимать эстетику моды, что нового придумали писатели о любви и какую роль в судьбе человека играют те или иные встречи. Студентки приняли идею белобородого старца с внешностью Гомера в пиджаке со смешками, но сейчас Катя подумала, что тому преподавателю уж точно понравился бы Роман. Столько лет прошло – и ни единого «информационного вопроса», сплошные идеи.
– Ты подумай, какая разница между нами и, к примеру, первыми христианами, которые пели, когда их вели в Колизей на расправу! – продолжал Роман. – Кто из нас не отрёкся бы от веры, если бы был выбор между нею и жизнью? Или вот взять иконы… Мы привыкли их воспринимать как картины, как некие символы, даже, наверное, обезличенные – и в голове не укладывается, что это были живые люди! И как они жили! Откуда у людей это бралось – стойкость, что ли… Я когда книги о них читаю, вот этого понять не могу. Что им силы давало и почему мы так не можем…
– Умирать?
– Жить.
Катя молчала. Внутри неё что-то беспокойно зашевелилось, что-то «неправильное» и «ненастоящее», что мешало ей жить. Или просто чай окончательно остыл, и снова стало слишком холодно. Но разве не было ей слишком холодно и до наступления морозов…
– Так ты понял, что быть священником – это не твоё? – уточнила она, переводя высокий слог Романа в более понятные категории.
– Знаешь, наверное, это могло бы быть моим, если бы я не был таким ослом.
– Ты что-то натворил?
– Да… Но ты ведь не будешь об этом спрашивать?
Катя едва сдержалась, чтобы не погладить мужчину по голове: столько в его лице было усталости и бессилия. В этот миг Роман представился ей в рясе и с крестом в руках; добрый и странно беззащитный, казалось, он не представлял себе, что, если она всё-таки спросит, можно просто не ответить.
– У тебя есть девушка?
Роман покачал головой.
– Нет… И представь себе, примерно по той же причине, по какой я больше не служу в церкви. Я тут недавно подумал, что теперь весь такой из себя светский и, может быть, было бы неплохо… Начал встречаться с одной – будешь смеяться, квартиранткой моей матери.
Лицо Кати окаменело. Судя по всему, смеяться она не собиралась.
– Лерка?
Роман кивнул.
– Ты всё ещё общаешься с матерью? Надо же, она мне не говорила…
– Нет. – О Катин голос можно было обморозить руки. – Просто с этой… в общем, с ней мне изменил муж.
В кухне повисла тишина.
– Блин… Ты уверена?
– Нет, на кофейной гуще гадала! Конечно, уверена. Так что твой выбор, извини, не поддерживаю. И чем она вас… – Катя с досадой отставила наполовину полную кружку в сторону. – Ладно, Ромка, засиделась я. Ещё забегу.
Роман смотрел в окно вслед стремительно исчезающей за сугробами подруге, с которой был неразлучен несколько детских лет и которая понятия не имеет, как, возможно, он перед нею виноват. И подумал: может, и к лучшему, что он не успел рассказать ей свою версию, почему всё кругом завалено снегом.