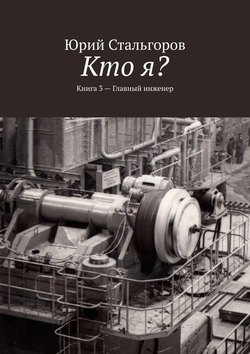Читать книгу Кто я? Книга 3. Главный инженер - Юрий Стальгоров - Страница 7
Часть I – Кузлит
Глава 5
ОглавлениеВ 1981 году у меня возникла какая-то болезнь – на шее и в горле высыпали небольшие гнойнички. До этого у меня никогда не было никаких гнойников ни на каком месте тела. Я думаю, что этом как-то было связано со сменой климата с кубанского на камышинский. Моя жена оказывала мне медицинскую помощь (она ведь фельдшер) – смазывала мне горло «люголем», пыталась вылечить гнойнички на шее, но ничего не получалось. По совету врача я попросил в своём профсоюзном комитете путевку в санаторий в Крым. Как раз у меня наступил отпуск с 1 апреля 1981 года, и я уехал в Крым, где проходил лечение в санатории «Украина». В апреле в Крыму купаться невозможно – вода в море холодная. Но климат в Крыму замечательный, лечебный, сухой. Я пробыл там почти месяц, проходя различные процедуры, в том числе прогулки в сосновом лесу. В палате мы жили вдвоем – я и мужчина примерного одного возраста со мной, директор радиозавода в городе Каневе Черкасской области Украины. Жили мы с ним достаточно дружно – слегка выпивали, ходили на танцы в санаторий, ездили на различные экскурсии, например, в Ливадию, в Поляну сказок. В Ливадии наша экскурсионная группа решила сфотографироваться:
У меня был один проблемный вопрос, который я задал своему «сопалатнику»: «Вот приезжает ко мне на завод какой-либо руководитель из министерства или из главка и претендует на серьезную выпивку, то есть на коньяк и какую-либо шикарную закуску. Я лично не могу его угостить, потому что у меня маленькая зарплата, а нужно обязательно – такая уж гнилая традиция. Ты не можешь сказать, откуда можно брать деньги?». Он ответил: «Я директор завода всего лишь один год. До этого я пять лет работал главным инженером этого же завода, и у меня была твоя проблема. Приходилось выписывать дружественным мне работникам завода премии за новую технику, оставляя им для уплаты налога определенный процент этих денег, а остальное они отдавали мне. Таким образом, я набирал некоторую сумму для угощения высшего руководства, но это криминал. Главный инженер моего завода как-то недавно собрал какую-то сумму для угощения, и на него тут же кто-то из „получивших премию“ пожаловался в прокуратуру. Главного инженера судили буквально месяц назад и дали 8 лет тюрьмы. Вот я тебе и рассказал всё, а ты как делаешь?». Я ответил: «Точно так же, как твой бывший главный инженер, но теперь я призадумался над этим».
Еще в санатории в библиотеке я взял почитать мемуары Е. О. Патона, это знаменитый ученый-сварщик. Он описывал, как с помощью Сталина организовал в стране автоматическую сварку танковой брони. Очень поучительно для меня было написано. Патон в своих интересах (не в личных!) использовал власть диктатора для организации и внедрения электросварки. Это происходило в 1940 и 1941 годах, было трудно организовать такой новый технологический процесс. Я припоминаю, что, когда я учился в техникуме в 1950 году, преподаватель говорил о том, что соединение двух деталей заклепками более надежно, чем сварка. Дело в том, что электросварка в 1950 году была действительно не очень хорошей. Тогда считалось, что электросварка – ненадежное крепление для двух деталей между собой. Считалось, что допустима электросварка только постоянным током. А Патон внедрял электродуговую сварку переменным током. Переменный ток гораздо проще получить, чем постоянный, а сварочный аппарат на переменном токе намного проще, чем аналогичный на постоянном токе.
К концу моего пребывания в крымском санатории все признаки моей болезни прошли – высыпания на шее пропали, горло также выздоровело. 24 апреля закончился срок путевки, и я уезжал из Крыма. Я не поехал сразу в Камышин, а заехал в Днепропетровск к моей старшей дочери Ольге, которая там училась в институте. Я знал адрес общежития и пошел сразу туда. Ольга жила в комнате вместе с еще двумя студентками. Не помню, давал ли я ей телеграмму о своем приезде к ней, но сразу же после моего прибытия к ней забежал ее приятель – курсант ракетного училища, расположенного недалеко от их общежития. Она познакомила меня с ним, его звали Рыбкин Игорь Анатольевич. Почему-то он сразу попросил у Ольги чего-нибудь поесть. У нее был сваренный заранее суп, и они вдвоем поели. Мне было в принципе безразлично, что Игорь собой представляет. Я считал, что если он нравится Ольге, а она ему, то на здоровье. Пусть встречаются, а потом, если захотят, то пусть женятся – это они выбирают друг друга, а я тут ни при чем. Я только спросил, когда он оканчивает свое училище. Выяснилось, что он его оканчивает буквально через три месяца – на 2 года раньше, чем оканчивает институт Ольга. Он поступил в училище на год раньше, и срок обучения в командном ракетном училище 4 года, а у Ольги 5 лет. Также я узнал, что сам он русский, из Рязани, где у него живут мать и отец. Я переночевал в общежитии в Ольгиной комнате и на следующий день уехал в Камышин.
К слову, в этом же году вторая моя дочь Валя окончила 10 классов Камышинской средней школы №1. Оценки у нее были все «пятерки», но на медаль ее не представили, так как она в Камышине училась только 1 год. Чтобы поступить в институт, одновременно она училась на заочных подготовительных курсах Днепропетровского химико-технологического института. Курсы были платными, но я решил подстраховаться и улучшить подготовку дочери к вступительным экзаменам. Тогда были льготы: тому, у кого были отличные показатели в аттестате, нужно было сдавать один экзамен по профилирующему предмету. Если абитуриент – школьный отличник – сдавал этот экзамен на «пять», то он зачислялся в институт, не сдавая остальных предметов. Валя сдала экзамен по химии на «пять» и поступила в Днепропетровский химико-технологический институт, туда же, где еще училась Ольга.
Вернемся к заводу. Кузнечные мощности принимались в эксплуатацию достаточно легко, так как само кузнечное производство не очень сложное. Вначале мы принимали в эксплуатацию основное технологическое оборудование – 5-, 10-, 16- и 25-тонные молоты. Позже принимали автоматические прессовые линии горячей штамповки.
В структуре заводоуправления было два технологических отдела: литейное производство возглавлял отдел главного металлурга, а кузнечное производство возглавлял отдел главного технолога (фактически это был отдел кузнечного производства, и главный технолог на заводе – это главный кузнец).
В отделе главного технолога находилось конструкторское бюро кузнечных штампов и группа непосредственно технологов кузнечного производства. Возглавлял этот отдел на тот момент главный технолог Футерман. Он раньше работал технологом кузнечного производства в Челябинске на заводе им. Колющенко и был достаточно грамотным как технолог и конструктор кузнечных штампов. Тем не менее, как организатор кузнечного производства он был никакой. Заместителем по кузнечному производству у меня был Бобровский. В этом отделе в бюро конструирования кузнечных штампов работала Вера Фомина. Она была опытным конструктором, так как несколько лет проработала конструктором кузнечных штампов на Волгоградском тракторном заводе. Еще несколько человек конструкторов-женщин осваивали это дело с ее помощью.
Из технологов я помню только одного – это Шипов Борис Евгеньевич, очень грамотный технолог кузнечного производства, окончивший Воронежский политехнический институт. Я поручил лично ему разработать техническое задание для Воронежского завода тяжелых механических прессов на изготовление автоматической прессовой линии горячей штамповки. Образцом для нас – меня и Шипова – служила автоматическая линия «Атаки-Комацу», но нам требовался в этой линии пресс с усилием 6300 тонн, а у «Атаки-Комацу» только 1600 тонн. Мы заложили в технические задания индукционный нагрев заготовок, указав их диаметр (минимальный и максимальный), и автоматизацию всех процессов штамповки. В 1981 году мы с Шиповым поехали в Воронеж с этим техническим заданием. Мы должны были согласовать, возможно, какие-то нюансы этой автоматической линии и срок ее изготовления.
Воронежский завод тяжелых механических прессов мне понравился, понравилась организация его работы. Это не был завод массового изготовления каких-либо агрегатов типа трактора или автомобиля. Мне кажется, что его можно было сравнить только с авиационным заводом. Главным действующим лицом там был главный конструктор, ему подчинялись все. Но и он нес ответственность за изготовление всех изделий завода как перед заказчиками, так и перед коллективом своего завода. Благосостояние заводчан практически полностью зависело от работы главного конструктора, и для меня это было в новинку.
В 1982 году мы получили изготовленную по нашему заказу линию прессовой горячей штамповки с усилием 6300 тонн, строительная готовность для монтажа этой линии была. С разгрузочной площадки тяжеловесный пресс теперь уже привезла та же бригада, что возила шаботы. Кстати, эта бригада осталась у нас навсегда. Не знаю почему, но она так и не уехала в Нижний Новгород, а бригадир женился на камышанке и остался жить в Камышине. Куда девался его помощник, я не знаю. Автомобиль «Ураган» также остался у бригадира (он, кстати, ставил его вместе с прицепом на стоянку прямо во дворе дома, в котором жил со своей женой), поэтому проблем с транспортировкой тяжеловесов в зону монтажа у нас больше не было.
Мы смонтировали достаточно быстро эту линию, но нагрев заготовок не получался. Заготовки были приличного диаметра, около 120 мм, и нагрев был индукционный, током высокой частоты с помощью мощных тиристоров. Нагревательное устройство монтировали заводские электрики, это были достаточно опытные люди. Однако тиристорные нагреватели не справлялись со своей работой, и опять у меня проваливался прием кузнечных мощностей. Никто ни на заводе, ни в самом Камышине помочь мне не мог, причем руководители в кузнечном производстве не особо и старались мне помочь. Представитель одного из подрядчиков, «Нижневолжскэлектромонтажа», мне сказал, что в городе Волжском на трубном заводе применяется индукционный нагрев большой мощности, и люди, которые его эксплуатируют, знающие. Я по телефону связался с главным инженером Волжского трубного завода, он мне сказал: «Да, у нас есть отличный наладчик нагревательных индукционных устройств. Я могу к вам его прислать, но, конечно, ему надо хорошо заплатить». Я согласился, пояснил ему, что за конструкция нагревателя у нас, и спросил, сколько времени, по его мнению, займет наладка нашего нагревателя. Подумав, он ответил, что самое большое – неделя. Я попросил его прислать к нам этого наладчика на неделю, на что он согласился. На следующий день приехал наладчик и пришел ко мне. Я свел его с заводским наладчиком – вызвал к себе последнего и попросил, чтобы он показал приехавшему специалисту объем работы по наладке. Через час эти ребята пришли ко мне. Приехавший наладчик сказал, что он ознакомился с объемом работ и что он сумеет наладить нагреватель, а ему нужно за это заплатить 500 рублей. Я вынужден был согласиться, опять решил вопрос с главным бухгалтером и заключил с этим наладчиком трудовой договор на эту сумму. Через два дня наш наладчик позвал меня посмотреть, как работает прессовая линия. Оказывается, вместе с приезжим наладчиком они сумели наладить тиристорный нагреватель, попросили начальника цеха начать штамповку какой-то детали и опробовали линию как следует в рабочем состоянии. При этом во время всех испытаний там присутствовал технолог Шипов.
Я ни о чем не сожалел. Недельный объем работы оказался выполнен за два дня, но ценить работу нужно не за продолжительность ее выполнения, а за быстроту и ум наладчика. Я спросил нашего наладчика: «Что же ты не сумел сделать сам эту работу?». Он мне ответил: «Я впервые столкнулся с такой работой и не знал, в чем загвоздка. А приехавший специалист понял все сразу, так как эта работа ему не впервой. Оказалось, все дело в том, что тиристоры, изготовленные в Советском Союзе, по своим характеристикам различаются друг от друга больше, чем следует. То есть завод, который нам поставил эти 4 тиристорных нагревателя, изготавливает плохие изделия. Хорошо, что у нас было еще 6 штук, предназначенных для других линий штамповки. А нужно было очень тщательно подобрать по характеристикам эти 4 тиристора, и только в этом случае они дают свою суммарную пиковую мощность. Я этого не знал, а приехавший наладчик уже сталкивался с такой проблемой, и мы сразу приступили к изучению выходных характеристик всех тиристоров. Нам повезло – из 10 тиристоров мы сумели отобрать 4 одинаковых по характеристикам, вот мы их и поставили в нагреватель. А ведь мы могли и не найти одинаковых по характеристикам тиристоров». Приезжий наладчик сказал: «У вас отличные наладчики, они разбираются во всех тонкостях процесса нагревания заготовки и в конструкциях тиристоров. Но они, конечно, не знали, что тиристоры изготовлены так, что в группе на нагрев одного изделия работать не могут. Фактически это заводской брак, хотя, если бы эта заготовка была небольшого диаметра – скажем, как на корпус форсунки у вас на линии „Атаки-Комацу“, то с ее нагревом справился бы один тиристор, и не требовалось бы никаких согласований по характеристикам».
Хочу упомянуть еще один момент. Когда я только приступил к работе главным инженером кузлита, я обратил внимание на то, что территория завода ничем не ограждена. По проекту ограждение фасадной части завода длиной 2 км, которая выходила на подъездную автодорогу, должно было быть выполнено из металлических квадратных труб секциями по 3,5 метра. Эти секции были уже почти полностью изготовлены цехом нестандартного оборудования и лежали на складе. В 1981 году проект завода был скорректирован, и заводская площадка увеличилась с 96 до 120 гектар.
И вот я решил, что пора смонтировать ограждение завода. Для этого я включил монтаж ограждения в пусковой комплекс строительства завода на 1982 год. Я обязал конструкторский отдел нестандартного оборудования спроектировать заводские ворота, сделав их автоматизированными для проезда автотранспорта. В то же время я попросил, чтобы этот въезд на территорию завода выглядел величественно, и на воротах крупными буквами было написано «Камышинский кузнечно-литейный завод».
Главный инженер ОКСа завода Кокин подобрал проект типового домика для охраны с проходной на завод, в котором находились также помещения отдела кадров. Надо сказать, что возле ремонтно-литейного цеха впоследствии была смонтирована еще одна заводская проходная, но уже без домика с комнатой охраны.
По проекту ограждение остальных частей завода помимо фасадной должно было быть выполнено сеткой Рабица. Это мне показалось недостаточным – на мой взгляд, требовалось более серьезное ограждение. В то же время трест «Камышинпромжилстрой» изготавливал и применял в виде ограждения в своей деятельности тонкую железобетонную плиту размерами 4х3 метра. Чтобы создать сплошное ограждение, необходимо было эти плиты монтировать на железобетонные столбики, вкопанные в землю.
Я попросил Кокина, чтобы он выдал чертеж такого ограждения строителям. В проекте завода, тем не менее, не было указано, в каких местах требовалось установить ограждение, кроме его фасадной части. Поэтому я сказал Кокину: «Пойдешь со мной, пригласи также главного инженера „Камышинпромжилстроя“. Мы пойдем втроем, и я укажу, где ставить ограждение».
Начало и конец фасадного ограждения мы определили сразу, и я пошел перпендикулярно этой точке в сторону подъездных железнодорожных путей. Вторая точка фасадной части находилась метрах в двухстах за ремонтно-литейным цехом, от нее я пошел перпендикулярно до автодороги, проходящей мимо электроподстанции «литейная». Тыльную часть ограждения я не стал обозначать, и главный инженер треста сказал, что на 1982 год там, где мы прошли, будет достаточно, и трасса ограждения будет чрезвычайно сложной.
Когда Кокин начертил схему установки ограждения завода, он мне сказал: «Вы, Юрий Михайлович, захватили чужую территорию, которая нам не отведена – здесь больше, чем 120 гектар». Я сказал ему: «Если кто-то захочет разобраться, пусть подает на кузлит в суд. Но я думаю, что никто не будет измерять эту территорию и проверить законность установки нашего ограждения».
Мы выдали строителям со склада изготовленные металлические секции ограждения фасада, наняли подрядчика для изготовления и монтажа подъездных ворот. Надо сказать, что ворота, на мой взгляд, были спроектированы убого и выглядели точно так же. Я понял, что в заводском конструкторском бюро нестандартного оборудования работают некомпетентные люди.
Осенью 1982 года мы приняли в эксплуатацию ограждение завода вместе с проходными и воротами.