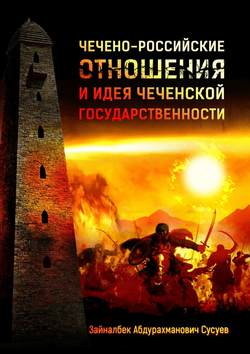Читать книгу Чечено-российские отношения и идея чеченской государственности. Политический очерк - Зайналбек Абдурахманович Сусуев - Страница 3
1. Чеченская тема в исторической науке
Оглавление«…Излишества исторического чувства, от которых страдает современность, умышленно поощряется, поддерживается, с тем чтобы использовать их в известных целях».
Ф. Ницше
В 1929 году в №3 журнала «Революция и горец» была напечатана статья «Как не надо писать о Чечне». Написал её замечательный чеченский поэт, писатель, в то время руководящий работник в органах советской власти, а позднее узник ГУЛАГа Магомет Мамакаев. Характеризуя литературу того периода о Кавказской войне, он писал:
«Горцы, естественно, рассматривались как внешние враги России… Отсюда некое „молчаливое соглашение“ заранее со всем тем, что могло быть о них написано. Могло же быть о них написано только то, что должно было оправдать основную идею – покорение Кавказа, законность наступления на юг, массового истребления горцев, сжигания их жилищ, предания огню и мечу их аулов».
Причём М. Мамакаев в своём выступлении против попыток оправдать захватническую политику царизма не был одинок. В первом номере того же журнала «Революция и горец» автор Гурген Левонян писал, что многие народы Северного Кавказа оказались в числе верноподданных, «будучи прижаты к стене экзекуциями и карательными экспедициями». Однако выступления их и многих других были обречены тем, что история писалась от политической доктрины.
«Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее… Историю, как старый пергамент, выскабливали заново – столько раз, сколько нужно… И где-то, непонятно где, анонимно существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью уничтожить без остатка», – этими словами английского писателя Джорджа Оруэлла из романа «1984» можно без особой натяжки характеризовать состояние бывшей советской и настоящей российской исторической науки. И хотя сейчас не существует такого мощного аппарата, как отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС со своими подразделениями во всех обкомах и райкомах, внимание к исторической науке российских политиков и государственных деятелей как в центре, так и в регионах велико. О некоторых причинах этого внимания уже упоминалось в предисловии. Кроме того, причина видится и в том, что к истории, как и к религиям, политики относятся прежде всего как к средству идеологического воздействия на массы людей с целью обосновать или оправдать свою линию. В настоящее время на самом высшем уровне принято решение о необходимости издания единого учебника по истории для школ и вузов. Но доктрины исторической науки в стране пересматриваются не в первый раз. Экзамены по истории в учебных заведениях отменялись в 1956, 1988 годах. Факты, свидетельствующие о том, что в досоветской, советской, современной российской исторической науке, а следовательно, и в учебниках по истории не нашли должного отражения имевшие место события, или они получили неправильную или заведомо искажённую трактовку, или же и то и другое – не соответствовало политическому курсу руководства на том или ином этапе. Вот и переписывают её столько раз, сколько нужно. И каждый раз поднимается и по-разному толкуется так называемый кавказский вопрос в истории, составной частью которого является и вопрос освещения истории Чечни и чечено-российских отношений. Сейчас он опять оказался актуален. Почему? Предстоит дать оценку событиям на Северном Кавказе и особенно войне в Чечне. И, что немаловажно, роли отдельных личностей – политических деятелей, военных, представителей духовенства в этой войне. Какая тенденция? В настоящее время в сознание граждан всей России лидерами националистических движений, отдельными депутатами всех уровней, отдельными политиками и руководителями различного ранга допускаются высказывания о том, что все беды россиян – из-за Кавказа и кавказцев, а людей уничтожали и города и сёла разрушали в Чечне в борьбе с международными террористами, да и вся война в Чечне была инспирирована извне враждебными России силами, исламскими экстремистами. Так это мы уже проходили! Такая интерпретация событий на Кавказе не нова. Именно так характеризовалась борьба горцев Северного Кавказа за свою свободу с XVI века до 1917 года, в частности войны под руководством шейха Мансура и имама Шамиля, тоже якобы развязанные враждебными России зарубежными силами. Инспирированная партийными органами, такая «историческая» теория представила чеченцев вечно выступающими в фарватере враждебных России государств, то есть вина за веками лившуюся на Кавказе кровь подспудно ложилась на чеченский и другие народы Кавказа. А разве не то же самое мы имеем сейчас? Попытки трактовать события с начала 1991 года как выступления террористов и бандитов, опять-таки инспирированные извне, только против которых якобы и воевала российская армия, разве не равнозначны теориям, предшествовавшим выселению чеченцев, ингушей и других народов в 1944 году и получившим широкое распространение в годы их депортации?
В годы последней войны на территории Чечни в период с 1994 по 2009 год сражались, погибли, пропали без вести и остались увечными не десятки, не сотни, не тысячи, а десятки тысяч чеченцев и людей других национальностей, в том числе, конечно, и русских, а весь чеченский народ получил очередную вечную моральную травму. И не только чеченский. Пострадало огромное количество людей, которые инстинктивно чувствовали всю преступность и аморальность этой войны, но ничего не могли сделать. Более того, вынуждены были посылать на неё своих сыновей или сами участвовали в ней. Это ощущение сопричастности преступлению, конечно, не могло не вызвать психологическую травму у большинства порядочных людей во всей стране. Независимо от целей и мотивов тех, кто развязал эту войну-бойню и в Москве, и в Грозном, чеченцы воевали за свою свободу и независимость. И не были они ни бандитами, ни террористами, хотя, как во все времена в периоды великих потрясений в любых обществах, криминальные элементы и в этих событиях подымали планку своей деятельности. О террористах и терроризме мы ещё поговорим. Однако продолжим. Соединение указанных выше теорий по истории Кавказа в 30—40 гг. прошлого столетия с субъективной оценкой имевших место в ЧИАССР, как и во всей стране, отдельных стихийных выступлений в связи с перегибами при коллективизации и запретами на исполнение религиозных обрядов и национальных обычаев, отождествляемых с бандитизмом, которые, кстати, по масштабам намного уступали аналогичным выступлениям в других регионах, привело к тому, что весь народ был заклеймён как «враги народа» и депортирован. В результате чего более трети населения погибло от всем известных обстоятельств. Несколько поколений оказались физически и морально нездоровыми. Седобородые старцы, потрясающие посохами на площади перед Совмином в 1991 году, были те – из униженных в период 1944—1957 гг., из выживших, но ничего не забывших. Чувством психологического ожесточения выживших, но униженных, и чувствами их сыновей и дочерей, родившихся в изгнании, манипулировали те, кто вершили свои дела и в Грозном, и в Москве и в конце концов предали их.
Как видим, трагедии 1944 года предшествовало идеологическое наступление. После XX съезда КПСС, осудившего не только культ личности, но и несправедливость (преступление) в отношении многих народов страны, начался пересмотр идеологических установок, политической линии, исторических теорий, способствующих этим преступлениям, оправдывающих их. Прошли совещания историков в Москве, Махачкале. Состоявшаяся в октябре 1956 года в Махачкале сессия Дагестанского филиала Академии наук СССР и всесоюзное совещание историков, созванное Институтом истории Академии наук в ноябре 1956 года в Москве, констатировали: «Нет никакого сомнения в том, что движение горцев не было инспирированным извне, хотя враждебные России державы и пытались использовать его в своих агрессивных целях. Основу движения составляли трудящиеся горцы, боровшиеся за свою свободу и независимость, против захватнической, колонизаторской политики царизма, а также против местных феодалов как своих угнетателей и опоры царизма». («Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-х годах XIX века», Махачкала, 1959 год). И хотя речь здесь идёт конкретно о движении определённого периода, несомненно, что данное утверждение может быть отнесено и к военным действиям и до и после Кавказской войны. Осуждение культа личности Сталина, восстановление автономии репрессированных народов, начало развития объективной исторической науки, несомненно, способствовали развитию производства, науки, культуры, искусства в восстановленной ЧИАССР. Двадцатилетний период с 1957 по 1977 год для нашей республики можно назвать плодотворным в смысле развития производительных сил, науки, литературы, искусства. Хотя в наиболее важные отрасли производства, такие как нефтедобыча, нефтепереработка, машиностроение, чеченцы не принимались (речь об этом отдельно). Поколение, выросшее и не забросившее образование в депортации, жадно, страстно окунулось в творческую работу в областях науки, искусства, литературы. Вышли из печати: сборник стихов «Избранное» на чеченском языке М. Мамакаева, его же книга «Зелимхан», произведения на русском и чеченском языках Саида Бадуева, «Именем Свободы» А. Айдамирова, «Завещание воина» З. Муталибова, «Из тьмы веков» И. Базоркина. В исторической науке – «Восстание горцев в Чечне в 1877—1878 гг.» Мальсаговой Т. Т., «Чеченский язык» Чентиевой, «Чечено-русский словарь» Мациева. Чечено-Ингушский драматический театр стал одним из самых лучших на Кавказе. Ставились пьесы не только местных авторов – «Бож-али», «Бешто», «Петимат», «Песни вайнахов», – но и пьесы из русской классики, а также зарубежных авторов – Лопе де Вега, Гарсиа Лорки и др. В русском драматическом театре успешно работали актёры чеченской национальности. Но хрущёвская оттепель продолжалась недолго. Обозначившиеся некоторые свободы в развитии литературы, искусства, в общественной и политической жизни оказались кратковременными. В Чечне за этот период успели плодотворно поработать в области исторической науки. Так, в Грозном в 1967 году коллективом учёных была издана книга «Очерки истории Чечено-Ингушской АССР». Основные события истории края, освещение отношений с Россией в материалах книги соответствовали принципиальным положениям, определённым московским и махачкалинским совещаниями историков. Однако в 1978 году, через одиннадцать лет после написания, материалы книги были подвергнуты критике на конференции по историографии Дона и Северного Кавказа, состоявшейся в Грозном, прежде всего со стороны партийных работников – руководителей Чечено-Ингушского обкома КПСС. В их выступлениях звучала явная озабоченность тем, что с ростом образования происходит рост национального самосознания. На данной конференции первым секретарём обкома А. В. Власовым было дано задание, сформулированное им в докладе «Исторические исследования на уровень современных требований». А «современные требования», оказывается, заключались в том, что в очередной раз необходимо переписать историю, и переписать так, чтобы выходило, что Российская империя складывалась не в результате захватнических войн и колониальной политики царизма, а результате того, что все близлежащие народы и страны добровольно присоединялись к ней, принимали подданство отсталой крепостнической России. И это, безусловно, должно было рассматриваться как великое благо для них, иметь прогрессивное значение, а роль России должна была при этом быть цивилизующей. Данная установка была реализована на следующей конференции в Грозном уже в 1979 году. Но данной конференции предшествовал пленум обкома партии, который констатировал: «…Вхождение Чечено-Ингушетии в состав России произошло не в результате насильственного присоединения в период так называемой Кавказской войны, как утверждают некоторые научные сотрудники… Окончательное завершение процесса добровольного оформления русско-чечено-ингушского единства в составе России произошло в январе 1781 года принятием Договора о вечной дружбе с Россией». («Навеки вместе», стр. 16). Здесь не только предопределение решения вопроса, но и предупреждение «некоторым научным сотрудникам». Ими были научные сотрудники Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и культуры А. Вацуев, М. Музаев, Я. Вагапов – историки, которые были уволены из института за открытое выражение несогласия с данной, несомненно ложной, теорией. И не только они. С появлением «исторической» теории о якобы добровольном присоединении Чечено-Ингушетии к России все читающие чеченцы вдруг стали историками. Не избежал этой участи и я, выпускник Грозненского нефтяного института. Начал в своё свободное время засиживаться в «Чеховке» – республиканской библиотеке. И написал яростную статью против лжетеории Виноградовых на чеченском языке, которую отнёс в редакцию газеты «Ленинан некъ» («Ленинский путь»). В то время в стране всё было ленинским, как сейчас в Чечне – кадыровским, путинским. Редактор Юшаъ Айдаев бегло просмотрел материал и сказал, что не может напечатать. Помню, он откинулся в своём кресле и сказал: «Заманах кхеттачо зама яьъна, заманах ца кхеттарг замано ваьъна» («Кто время понял – пожал успех, кто не понял время – стал его жертвой» – смысловой перевод). Редактор был доволен временем и собой. Я – нет. Переписав статью на русском языке, понёс её в редакцию газеты «Грозненский рабочий». Там в каком-то отделе мне объяснили, что газета является органом обкома КПСС и напечатать статью, противоречащую официальной линии партии, не могут. Я-то, наивный, пишу, что выступаю против исторической теории, и отправляю письмо в обком партии с жалобой на то, что редакции газет препятствуют мне реализовать моё конституционное право слова и выражения мнения. Меня вызывают в обком. Работник отдела агитации и пропаганды, то ли зав, то ли замзав Руслан Нашхоев в отдельном кабинете говорит мне, что согласен со всем, что я пишу, но это не историческая, а политическая теория, и советует не лезть на рожон – не время. Но копия мною уже отправлена в ЦК КПСС. Вскоре получаю пространный ответ из Института истории Академии наук СССР. В письме разъясняется, что не только Чечено-Ингушетия, но чуть ли не все народы мира в своё время горели желанием добровольно войти в состав России, а для всех народов СССР установлены даты, которые считаются датами осуществления этих их желаний. Кстати, ингушские историки и политики до сих пор продолжают бахвалиться тем, что они, в отличие от Чечни, точно добровольно стали подданными России, хотя история знает немало примеров активного противодействия ингушской части единого вайнахского народа российской экспансии. Делать нечего – пошёл я со своими письменными выкладками на заседание общества «Кавказ» и зачитал их. Так я стал «неформалом». Празднование 200-летия добровольного присоединения Чечено-Ингушетии к России и 60-летия образования ЧИАССР состоялось в 1982 году на стадионе «Динамо». Не в силах сдержать от возмущения и бессилия слёзы, я покидал стадион. В воротах повстречал девушку. Я как-то сумбурно высказал ей своё недовольство происходящим. После этого прошло, наверное, более 25 лет. И вот в Грозном подходит ко мне известная в республике журналистка и спрашивает, помню ли я, как плакал на стадионе «Динамо». Я постеснялся признаться. Сегодня признаюсь. Потому что точно такие же чувства владеют мною и сейчас. Опять по большей части политиками и публицистами, озвучивающими их позиции, а не историками, предпринимаются попытки ревизии истории вообще и истории российско-кавказских, в том числе и российско-чеченских отношений. Сегодня они, не делая различий между тысячами сыновей и дочерей чеченского народа, среди которых было и абсолютное большинство современного чеченского руководства, которое, следуя призыву к джихаду Ахмат-Хаджи Кадырова и зову сердца, сражались и гибли с искренней верой, что воюют за свободу и независимость Чечни, и теми, кто, преследуя свои меркантильные интересы и выполняя задание своих российских и зарубежных кукловодов и превратно толкуя идею джихада, ввергли народ во вторую кровавую бойню, пытаются представить всё чеченское движение сопротивления как террористическое и, опять-таки, инспирированное извне.
Да, вторая чеченская война была инспирирована извне – из России. Это была пиар-кампания всех без исключения кандидатов в президенты России на выборах в 2000 году. Хотя готовили её определённые и известные круги в Чечне, в Дагестане, в Москве.
Да, это был террор, но прежде всего – террор российского государства над всем чеченским народом. И таким официально именовался – контртеррор.
В то время интеллигенция сумела развенчать, осудить теорию о якобы добровольном присоединении Чечено-Ингушетии к России, теорию от политики, виноградовщину в исторической науке. В 2008 году современные чеченские власти выкопали в истории чечено-российских отношений нужную дату и отметили 420-летие установления дружественных отношений Чечни с Россией. Так чеченцы никогда не относились и не относятся недружественно к русским и к другим народам. Спустя много лет, в 1990 году апологет этой явно политизированной теории В. Б. Виноградов выступил в газете «Грозненский рабочий» со статьёй «История с директивной историей», в которой он писал:
«Состязательность выдвинутых идей и версий учёных была, как теперь становится совершенно ясно, нарушена прямой политизацией, идеологизацией проблемы… Да, концепция добровольного вхождения чеченцев и ингушей в состав России два столетия назад, подаваемая как инстанция в последней ипостаси, отвергнута большинством историков».
Думается, что и Виноградов, и С. Умаров, и другие историки, продвигавшие эту «теорию», не могли не знать не только о её неверности, но и о её зловредности. Но была доктрина, чёткая политическая установка, и её озвучил тот же Виноградов и его приспешники. В брошюре «История о добровольном вхождении чеченцев и ингушей в состав России и его прогрессивные последствия» под редакцией Виноградова пишется, что идея о насильственном присоединении Чечено-Ингушетии к России постулируется с «целью взращивания ненависти к русским и другим народам нашей страны». Далее авторы вменяют инакомыслящим «формирование „надежды“ на восстановление „независимости“, отделение от СССР» и другие надежды. И такие политические установки, выдаваемые за исторические теории, насаждались по всей стране, а также в странах Варшавского договора, а их критика считалась чуть ли не уголовным преступлением. В «Литературной газете» от 14 мая 1988 года (время перестройки) приводятся слова участника встречи польских и советских историков, польского историка К. Журавского: «История царской России, её империалистическая политика, планомерная русификация – всё это является у нас областью интересов цензуры. Один высокий партийный деятель из группы Герека эту проблему сформулировал чётко и ясно: критику царизма партия будет трактовать как закамуфлированную критику Советского Союза». А это было чревато последствиями. Извращение истории, попытки научно обосновать репрессивную по сути политику российского государства и царского, и советского периодов в отношении и своего, русского, и других народов вызывали всплески возмущения, подготовили ту почву, на которой взошли семена раздора по всей стране, и стали одной из причин развала советской империи и кровавых событий в Чечне. К сожалению, и сегодня на свет вытаскиваются прежние инсинуации об инспирированности этих событий извне. А потрясшие весь мир кровавые злодеяния российской армии в Чечне в период 1994—2009 гг. пытаются представить как борьбу с терроризмом, причём с международным. Хотя суть её всему миру известна. Суть её можно выразить словами русского же журналиста: «Истребление тысяч совершенно невинных граждан на территории Чечни характеризуется международным и национальным правом однозначно – это геноцид» (А. Илларионов, Б. Левин, «Россия должна признать независимость Чечни», газета «Зов предков», №4, 1995 год).