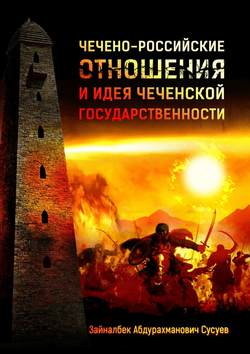Читать книгу Чечено-российские отношения и идея чеченской государственности. Политический очерк - Зайналбек Абдурахманович Сусуев - Страница 4
2. Какую Россию знала Чечня
Оглавление«…Исторический и этнический факторы не лежат в основе конфликтов в регионах бывшего СССР, включая Чечню и в целом Северный Кавказ. Тем не менее, мы отдаём должное истории как мощному объяснительному и мобилизационному ресурсу».
В. П. Тишков.
«Общество в вооружённом конфликте»
Я бы добавил, что и религиозный фактор не является причиной конфликтов на постсоветском пространстве, хотя определёнными кругами и в Чечне, и в России пытаются представить последнюю войну в Чечне, как и предыдущие, имеющей религиозный характер. Это абсолютно не так. Впрочем, об этом – отдельно. Но на истории взаимоотношений граждан, этнических, религиозных, социальных групп, народов и стран, хотя бы как на объяснительном факторе, хотя бы на примере Чечни, следует, наверное, остановиться.
Исторические факты – они объективны, но в исторической науке и в России, и в других странах ими нередко манипулируют, как уже писалось. Менялась не только интерпретация событий и фактов – менялась и терминология. Термин «присоединение» в освещении российско-чеченских отношений был заменён термином «вхождение», что подразумевало добровольность события. Понятие «национально-освободительное движение» было заменено на «движение сепаратистского характера». История Чечни последних пяти столетий – это прежде всего история отношений с Россией. К сожалению, писалась она кровью. Одной из концепций толкования истории взаимоотношений России с сопредельными народами, которые оказались в её составе в результате то ли насильственного присоединения, то ли добровольного вхождения, была и концепция о цивилизационной роли России в отношениях с этими народами и, следовательно, о прогрессивном значении российской колонизаторской политики. Извечная песня всех колониальных держав. В годы, предшествующие событиям 90-х годов прошлого столетия, чеченцам, как и другим народам, внушалась аналогичная мысль. В сборнике «Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа» академик А. Л. Нарочницкий в то время писал: «С вхождением народов Северного Кавказа в состав России открылась новая страница в истории этих народов. Не Россия помещиков, капиталистов, с её самодержавно-крепостническими и буржуазными антинародными порядками, великодержавно-крепостнической идеологией господствующих классов – угнетателей масс всех национальностей, в том числе и русской, а подлинно прогрессивная Россия с её замечательными демократическими и революционными традициями, передовой революционно-освободительной идеологией и передовой культурой стала определять взаимоотношения народов Северного Кавказа и русского народа». Если в первой части данной цитаты дана исчерпывающая характеристика России тех времён, которую только и могли знать чеченцы и другие народы, то утверждения второй части о некой прогрессивной России более чем спорны. Могли ли чеченцы знать такую, да и была ли такая?
Вспомним историю России периода XVI – XIX веков, периода знакомства чеченцев и других народов Северного Кавказа с Россией. Русский народ – сплошь безграмотный, влачит жалкое существование в крепостном рабстве. Люди заняты непосильным трудом в помещичьих поместьях, над ними издеваются изуверски, их продают, меняют на щенят, зачастую разделяя родителей с детьми. Их порют розгами и кнутами. Даже после отмены крепостного права в 1861 году жизнь их не стала лучше, напротив, они стали нищими, так как остались без земли. Те мизерные участки земли, которые им разрешал использовать помещик, они были обязаны выкупить у него. Редко кто мог это сделать. И не может быть никакой речи о том, что этот народ мог что-то определять в своём государстве и в отношениях с другими народами и, тем более, нести какую-то передовую культуру в другие народы, особенно в среду народов Кавказа, где личная свобода, честь и достоинство личности ценились превыше жизни. Это в 1998 году новоявленные «радетели» шариата вздумали пороть чеченцев, за что и поплатились – народ отвернулся от них, а в то время такое было невозможно. Даже имам Шамиль не осмеливался посягать на чеченские адаты. Продолжим про Россию: царь Петр I только-только сбрил бороды русским боярам, в нескольких столичных учебных заведениях преподавание ведётся на немецком языке… Такова была Россия в период, когда, оказывается, все народы и страны от Польши на западе до Тихого океана на востоке якобы возжелали в неё войти. Да, была и другая Россия – после 1825 года. Россия образованных, достаточно передовых взглядов дворян и разночинцев. Правда, самый главный из этих «передовых», руководитель декабристов Пестель, в своей программе уготовил для кавказцев и других народов незавидную участь – жизнь в резервациях. Но не могла эта Россия определять взаимоотношения русского и других народов. Где была эта Россия? Эта Россия гнила в казематах Петропавловской крепости, звенела кандалами в сибирских рудниках, томилась в эмиграции, а остальная часть, одетая в солдатские и офицерские шинели, проявляла чудеса храбрости в боях с чеченцами, как было написано в представлении на М. Ю. Лермонтова: «Будучи рядовым, проявлял исключительную храбрость». То же самое пишется про Бестужева-Марлинского в библиографическом словаре «Русские писатели». Офицерский чин, по его собственным словам, «он выстрадал и выбил штыком». Против кого был обращён этот штык, мы знаем. Да, они были сосланные, люди подневольные, как и абсолютное большинство русского народа. А вот другие – передовых взглядов, прогрессивные люди России: командующий Кавказской линией в 1840 году Н. Х. Граббе, проконсул Кавказа в 1816—1826 гг., генерал Ермолов – заслужившие на века ненависть народов Кавказа, особенно последний. Про них мы читаем в том же словаре: «П. Х. Граббе, в прошлом член Союза благоденствия, человек просвещённый и благожелательный» (указ. соч., стр. 413). Про Ермолова: «Герой Отечественной войны 1812 года, человек большой культуры и личного обаяния» (указ. соч., стр. 261).
Этот «человек большой культуры», которого никогда не покидало чувство, что он россиянин, как было написано на его памятнике в Грозном, своей жестокостью заслужил среди народов Северного Кавказа прозвище «Палач». Человек «личного обаяния» обольщал, похищал и насиловал горских женщин, в том числе замужних. Этот «герой войны 1812 года», который заявлял, что не успокоится, пока жив хоть один чеченец, уничтожал целые кавказские сёла, истреблял всё их население, не щадя даже детей. Крепость Грозная была заложена на месте уничтоженных четырёх или пяти чеченских сёл и хуторов. Памятник Ермолову в Грозном несколько раз взрывали неизвестные лица, но его опять восстанавливали. Окончательно его снесли в 1991 году. Вообще-то неизвестно, окончательно ли: в 2018 году исполняется 200 лет с момента заложения Грозной, и вовсе не исключено, что современные власти Чечни в своём верноподданническом усердии восстановят его. И ничего странного в этом не будет: в городе, где есть улица имени В. В. Путина, в бытность которого премьер-министром город был превращён в руины, есть улица генерала Трошева и псковских десантников, которые с боями его брали, установление памятника генералу, который этот город заложил, будет выглядеть вполне логично. Нелогично другое: почему в Грозном нет улиц и площадей генералов Рохлина, Шаманова, Степашина, Куликова, Романова, Бабичева, Квашнина, Барсукова – что, они хуже воевали, чем Трошев? Нам остаётся только надеяться, что всего этого не произойдёт.
О деятельности Ермолова, его жестоких методах ведения войны не против армии, не против какого-то государства, а против населения Чечни и других районов Северного Кавказа в России знали достаточно хорошо. Тем не менее, это не помешало Ф. Н. Глинке, тоже передовому человеку своего времени, написать стихотворение «Заздравный кубок А. П. Ермолову», в котором, в частности, пишется:
…А шашка между тем чеченцев
Вела с штыком трёхгранным спор,
И именем его младенцев
Пугали жёны диких гор…
Отзыв, конечно, не очень лестный, но правдивый. Аналогично высказывается великий Грибоедов: «Имя Ермолова ещё ужасает; дай бог, чтобы это очарование не разрушилось… Будем вешать и прощать и плюём на историю» (из письма Бегичеву, 1825 год).
Великий русский писатель граф Л. Н. Толстой, именем которого назван Чеченский государственный университет – если Бестужев, Лермонтов и некоторые другие воевали на Кавказе, будучи сосланными, то Толстой в действующей армии в Чечне оказался просто любопытства ради. Ему очень хотелось проверить, храбрый ли он человек, и своими глазами увидеть, что такое война. И он её увидел, узнал и осудил, и стал великим писателем. И ещё – он проникся чувством глубокого уважения к чеченскому народу, который на протяжении веков вёл непрерывную неравную борьбу за свою свободу и независимость. И не только он. В том же сборнике академик Ю. А. Жданов писал: «Свободолюбие горцев, их непреклонность перед любым насилием возбуждали встречный ответный ток в сердцах лучших русских людей». А вот слова известного этнографа Яна Чеснова, написанные в октябре 1994 года накануне ввода российских войск в Чечню: «Истинным патриотам России небезразличен этот народ, связавший с нею судьбу волей истории. Беспредел, установленный в Чечне в последние три года, возник там с ведома российских властей». И если эти «лучшие люди» были вынуждены воевать в своё время против горцев, а в современной России никоим образом не могут влиять на тех, кто развязал очередную войну против чеченцев, на тех, кто сеет раздор и смуту между народами, то ясно, какая Россия определяла отношения между русским и другими народами и какую Россию могли знать и знали чеченцы. С Россией русского народа чеченцы знакомы не были, с Россией колонизаторской они всегда воевали, и именно эта Россия определяла характер российско-чеченских отношений. Но, может быть, права русская пословица «Нет худа без добра», и есть какой-то смысл в высказывании секретаря ЦК КПСС В. Н. Пономарёва, сделанном им ещё в далёком 1963 году в его докладе «Историческую науку и образование на уровень задач коммунистического строительства», в котором писалось: «Диалектика истории такова, что вопреки реакционным методам и целям царизма присоединение народов к России, объединение их сил с силами русского народа в борьбе против национального и социального гнёта подготовило общий фронт революционного движения». Здесь всё поставлено с ног на голову. По мысли автора, царизм работал на обеспечение того единого фронта, который его и сгубил. Приведём другую цитату – Ф. Энгельса (хотя ныне и не принято цитировать классиков марксизма), который писал, что «в искажённо-спекулятивном представлении делу придаётся такой вид, будто последующая история является целью для предшествующей, будто открытие Америки имело основной целью помочь разрешиться Французской революции». Не присоединение Чечни и других территорий к России, а борьба чеченцев и других народов против этого присоединения обеспечили тот общий фронт, о котором писалось выше, и который не только не принёс народам Северного Кавказа освобождение от военно-полицейского режима, который установила в крае царская администрация, а наоборот придал ему более жестокие формы, который до самых настоящих пор существует в Чечне и надобность и необходимость которого обосновывается не только различными партийными и политическими деятелями, но и полностью поставленными властями в своё подчинение чиновниками от религии – чеченским мусульманским духовенством, которое исламскую религию низвело до уровня политической идеологии, обслуживающей власть. Как необязательно было присоединять Россию к Пруссии или к другой западноевропейской стране, культуру и образованность которых Петр I насаждал в стране, так необязательно было присоединять Чечено-Ингушетию к России, чтобы обеспечивать её социально-экономическое, культурное развитие, что, конечно, не являлось целью этого присоединения. Дружеские, союзные отношения с Россией, на которые всегда рассчитывали чеченцы, несомненно, обеспечили бы всё это и без тех огромных жертв, которые народ понёс только потому, что имперская сущность российского государства никогда ни в какие времена не допускала и не допускает таких отношений. «Покорение – дореволюционный период. Подчинение и усмирение – советский период. Умиротворение – период перестройки и приватизации. Разговора на равных не было никогда», пишет в своей статье «Национально-государственное строительство в Чечне» известный общественный деятель и историк А. Бугаев. По форме, по степени жестокости и декларируемым целям политика России в отношениях с чеченцами и другими горцами Северного Кавказа, да и других соседних народов, претерпевала различные изменения. Но сама имперская сущность этой политики не менялась. Она заключалась в том, что отношения с чеченцами и другими народами Кавказа российские политики и генералы строили исключительно на основе безусловного признания ими подданства России. Подданства, навязываемого силой оружия, с чем, конечно, смириться чеченцы не могли. В своей книге «Два века Терского казачества» В. А. Потто писал: «Ненависть горцев к нам как к пришельцам, вторгшимся в их внутренний мир, ни для кого не являлась секретом; она и выражалась частыми вспышками, подавляемыми только силой оружия. Перед этой силой приходилось смиряться, но надежда так или иначе избавиться от ненавистной им опеки никогда их не покидала».
Конечно, здесь и вообще речь идёт не об отношениях между горцами и русским народом. Речь везде об отношениях к репрессивным органам российского государства. Даже после пленения Шамиля восстания в Чечне и Дагестане, среди адыгов и черкесов продолжались.
• 1860—1861 гг. – восстание в Ичкерии. Предводитель – бывший наиб Шамиля Байсангур Беноевский.
• 1860 год – восстание в Аргунском округе. Предводители – бывший наиб Шамиля Ума Дуев и Атаби Атаев.
• 1864 год, январь – движение за освобождение Кунта-Хаджи. Расстрел его сподвижников в Шали.
• 1865 год – попытка восстания в селе Харачой под предводительством Тазу Экмурзиева.
• 1877—1878 гг. – мощное восстание в Ичкерии под предводительством Алибек-Хаджи Алдамова, перекинувшееся на горный Дагестан.
• 1878 год, 9 марта – в Грозном через повешение казнены руководители антиколониальных восстаний в Чечне, всего 11 человек, в том числе Алибек-Хаджи Алдамов, Ума-Хаджи Дуев, Дада Умаев (сын Умы), Дада Залмаев и другие. Ещё в 1861 году в Хасавюрте был повешен легендарный Байсангур Беноевский.
До 1917 года борьба горцев принимает форму абречества. Как писал А. Шерипов, «власть терроризировала мирное население, а абреки терроризировали эту власть» (А. Шерипов, «Статьи и речи», стр. 47. Грозный, 1961 год).
Ценою огромных жертв с обеих сторон России периодически удаётся устанавливать своё военное присутствие на территории Чечни.
Фактически никакого присоединения, тем более вхождения, не было. Власть российская в Чечне всегда носила номинальный характер. Надежды, которые чеченцы связывали с приходом власти новой, советской, не оправдались. Эта власть отняла у них землю, право ношения оружия, право исполнять свои религиозные обряды и соблюдать национальные обычаи, хотя всё это гарантировалось декларацией В. И. Ленина «Ко всем трудящимся России и Востока».
«Красный террор» в годы гражданской войны, голодомор, коллективизация и раскулачивание тридцатых годов, чистки партийных рядов, репрессии НКВД и депортации целых народов в 40—50-х гг. – вот вехи кровавой истории большевизма. Нет никакой надобности делать экскурсии по их следам, об этом написано и известно много. Например, в книге Абдурахмана Авторханова «Народоубийство в СССР. Убийство чеченского народа» приводятся такие факты: только в операции, начатой в ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года, в Чечне были арестованы до 14 тыс. человек. Далее в течение 1937—1938 гг. были арестованы все работники партийных, советских, правительственных органов из числа чеченцев и ингушей как на территории республики, так и за её пределами. Но одно обстоятельство, наверное, следует выделить. Террор. Террор, почему-то именуемый в современных исторических исследованиях просто репрессиями, осуществлялся высшим руководством страны над всеми народами Советского Союза. Осуществлённый против лиц русского народа, он действительно мог именоваться репрессиями, но, осуществлённый в отношении отдельно взятой нации, он должен именоваться геноцидом, каковым и являлся акт поголовного выселения чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, крымских татар. Негативные последствия всего этого не только в том, что погибли сотни тысяч, а в масштабах страны – миллионы людей, но и в том, что народами, в отношении которых этот террор-геноцид осуществлялся, власть, исходящая из Кремля, рассматривалась как власть русских и в дореволюционный, и в послереволюционный периоды. А самим русским внушалось, что именно они вершители судеб сопредельных народов, хотя вершителями судеб и русских, и других народов в пределах Российской империи, организаторами террора над русскими, чеченцами и другими народностями в период власти большевиков являлись очень часто нерусские. Достаточно вспомнить фамилии высших руководителей КПСС и ЧК-НКВД: Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Дзержинский, Каганович, Свердлов, фамилии народных комиссаров в правительстве большевиков: земледелия – Протиян, продовольствия – Шлихтер, госконтроля – Ландер, госсобственности – Кауфман, экономики – Луре, религии – Спицберг, прессы – Моисей Володарский, организаторов выселения чеченцев и других народов – Берия, Кобулов, Гвишиани, организаторы террора в Крыму – Бела Кун и Розалия Залкинд (Землячка) и многие, многие другие. Ни один из них не является этническим русским. Отрядами наёмников из числа китайцев, латышей, венгров, других наций эти люди осуществляли невиданный до тех пор террор над русским и другими народами бывшей Российской империи в центральной России, на Украине, над казаками Дона и Терека, в Закавказье и Средней Азии. Но, повторюсь, хотя вершителями, организаторами этих кровавых преступлений в своём абсолютном большинстве были нерусские, в сознании инородцев они представляли власть – русскую. Такое восприятие происходящих событий, конечно, не могло не отразиться на общем фоне межнациональных отношений.
Но в целом представители всех народов инстинктивно чувствовали и осознавали, что кровавые эпизоды их взаимоотношений обусловлены не взаимной ненавистью, а политикой руководящих верхов. И именно эта политика и её носители определяли характер отношений между чеченским и русским и другими народами. Эту агрессивную политику репрессивных органов России знали в основном чеченцы. Ничего не изменилось и после установления в регионе власти Советов, за установление которой чеченцы и ингуши немало крови пролили в боях против казачьих формирований Бичераховых, армии Деникина. Можно не описывать события, предшествовавшие Второй мировой войне, они известны тотальными репрессиями партийно-чекистских органов против абсолютного большинства населения страны и актами геноцида против отдельных народов, в том числе и против чеченского народа. С большим воодушевлением, с большими надеждами встретили репрессированные народы известие о возможности возвращения на Родину и восстановления своих автономий. Но встречали их там крайне недоброжелательно. Обосновавшееся на территории Чечни пришлое русское, дагестанское, осетинское население, местные государственные и партийные аппараты восприняли возвращение чеченцев и ингушей крайне враждебно. В 1957—1958 гг. и местное население, особенно русское население городов Грозный, Гудермес, Малгобек, и руководители хозяйств и советских и партийных органов всячески пытались воспрепятствовать процессу возвращения депортированных. В августе 1958 года в Грозном начались античеченские, хорошо организованные выступления. Толпа захватила обком КПСС и устроила погром. Только ввод в город войсковых подразделений по приказу из Москвы успокоил бесчинствующих. Но на этом всё не завершилось. Оказывается, горные районы (Веденский, Ножай-Юртовский) руководство страны намерено было оставить в составе Дагестанской АССР, часть Советского (Шатойского) района – в составе Грузии, а территорию Пригородного района – в составе Северо-Осетинской АССР, и возвратившееся население туда пытались не допустить. Я помню, как, кажется, в конце октября 1958 года нашу семью, возвращающуюся из Казахстана, остановили перед шлагбаумом у села Беной-Юрт Веденского района и не пропускали далее, утверждая, что для жителей района выделены земли за Тереком. По настоянию отца наша машина спустилась к речке, и, не слушая милиционеров, по руслу реки мы объехали блокпост и поехали в своё село Эшилхатой, к тому времени переименованное аварцами в Зиберхали. Горные районы на территории Чечни население фактически захватили само, и дагестанское население просто вынуждено было оттуда ретироваться, и они были возвращены в состав Чечни. Пригородный район Ингушетии до сих пор захвачен осетинами, а чеченский Ауховский район в составе Дагестана всё ещё не восстановлен, хотя дагестанское руководство на словах и не отказывается от таких намерений. Депортанты были вынуждены выкупать собственные дома или строиться заново в плоскостных районах, так как во многие селения и хутора в горной зоне, где они проживали до выселения, для проживания они не пропускались, а заселившихся выселяли, разрушая даже уже построенные дома. На работу принимались только на самую малоквалифицированную. Люди, которые в Казахстане, в Средней Азии трудились на шахтах, стройках, механизаторами в сельскохозяйственном производстве, которые в голоде, холоде, перед лицом многочисленных смертей, в лагерях ГУЛАГа сохранили чувство собственного достоинства, заставили уважать себя там, где находились, вдруг у себя на родине оказались ненужными, людьми второго сорта. В городах их вообще не прописывали. Основное население осело в сельской местности. Если в целом по Союзу сокращение численности занятых в сельскохозяйственном производстве в связи с преобразованием технической базы приводило и к сокращению сельского населения, то в Чечено-Ингушетии этого не наблюдалось. Так, в 1977 году в стране численность сельского населения составляла 39%, численность занятых в сельскохозяйственном производстве – 24%. В Чечено-Ингушетии сельское население в тот же период составляло 56,5%. В настоящее время – в 2010 году – численность сельского населения составляет 65,7%. Такое преобладание сельского населения над городским в настоящее время связано с тем, что во время последних войн на территории Чечни вся промышленность республики была полностью уничтожена. Но тогда, во время возвращения чеченцев и ингушей, и после город Грозный являлся одним из крупных во всём Советском Союзе промышленным и научным центром. Работали гиганты промышленности – завод «Красный молот», нефтеперерабатывающие заводы им. Ленина, Шерипова, Новогрозненский, нефтехимкомбинат им. Анисимова, объединение «Грознефть», научно-исследовательские институты нефтяной и химической промышленности с мощной производственной базой. Кстати, все эти заводы и предприятия после первой военной кампании сохранились – просто их не бомбили. Все они были уничтожены во время второй – путинской войны, а вместе с ними и все здания государственного университета, нефтяного института и прочее. Но в то время, о котором идёт речь – 70-80-е гг., – чеченцев на эти предприятия не принимали, хотя потребность в кадрах была высокая. Социологические опросы, проведённые в те годы на заводе «Красный молот» и на Грозненском химическом комбинате, показали, как складывались эти коллективы: 55% – русскоязычные жители Грозного, 5—7% – из сёл республики, остальные – приезжие из других регионов. Причём на обоих предприятиях работали 4,3% и 3,7% чеченцев и 0,4% и 0,5% ингушей. Вопросам подготовки национальных кадров внимания не уделялось почти никакого. Например, в технических училищах №1 и №2, готовящих младших специалистов для предприятий объединения «Грознефтеоргсинтез», в 1977 году из 1419 учащихся обоих училищ чеченцев было 280 человек, ингушей – 33. В одном из популярных учебных заведений республики, Грозненском нефтяном техникуме, в то же время из общего числа выпускников в количестве 262 человек было только 20 чеченцев и 8 ингушей. Причём среди учащихся и студентов чеченской и ингушской национальности даже в технических учебных заведениях преобладали девушки. Объясняется это тем, что мужское население, которое не могло трудоустроиться на месте, массово выезжало на заработки туда, куда Сталин и его опричники совсем недавно высылали насильно – в Казахстан, в другие регионы. Небольшое сельскохозяйственное производство не могло их трудоустроить. Их презрительно называли «шабашниками». Это было очень пагубное явление. Оно очень негативно сказывалось на семейных отношениях, семьи рушились, прерывались родственные, духовные, культурные связи между людьми и поколениями. Молодёжь не получала должного образования. Это видно из следующих данных: в учебный период 1980—1981 гг. из общего числа студентов высших учебных заведений республики в количестве 12 184 человек чеченцы составляли только 6040 человек. В средних специальных учебных заведениях соотношение было следующим: всего учащихся – 14 237 человек, из них чеченцев – 5970. С учётом того, что численность чеченцев в республике не менее чем в полтора раза превышала другое население, цифры эти, конечно, явно неудовлетворительные. Соответственно, таковым было и соотношение в республике специалистов с высшим и средним специальным образованием. В 1960 году из общего числа специалистов с высшим и средним специальным образованием в 25 500 человек чеченцы и ингуши составляли соответственно 800 и 500 человек, то есть 3% и 2%. В 1980 году эти же данные составляли 23% чеченцев и 6% – ингушей. За двадцать лет произошёл некоторый рост специалистов. Объясняется это тем, что большинство студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений из числа чеченцев и ингушей учились на филологических факультетах Чечено-Ингушского государственного университета, Педагогического института и Грозненского и Гудермесского педагогических училищ. И, как уже выше упоминалось, большинство составляли женщины. Все данные взяты из книги «60 лет Чечено-Ингушской АССР». Но, как ни парадоксально, не физические страдания, не ущемление материальных интересов, не преследования религиозных деятелей послужили фактором, способствующим началу мощного демократического движения в Чечне, хотя, конечно, они аккумулировали готовое взорваться недовольство. Невыносимым для всего народа, особенно для его образованной части, стало широкомасштабное наступление на нравственные, духовные, культурные устои народа, развернувшееся в республике после возвращения на свою родину. Свадебные обряды по национальным обычаям, заключение браков и похороны по обрядам шариата, форма одежды в соответствии со своими видениями пристойности – всё было заклеймено как пережитки прошлого. Поощрялись межнациональные браки, так называемые «комсомольские свадьбы», где жених и невеста восседали за одним столом и происходило распитие спиртных напитков. Всё это было категорически недопустимо по чеченским обычаям. Эти свадьбы, очень редкие, демонстрировались по телевидению. Чеченский язык фактически был под запретом, представители русскоязычного населения бесцеремонно могли одёрнуть говорящих на своём языке окриком «Говори по-русски». Все, абсолютно все знатоки Корана и люди, отбывавшие в своё время сроки в лагерях не за уголовные статьи, находились на учёте в КГБ, а также под надзором в органах МВД.
Помнится, в газете «Колхозная жизнь» Веденского района появилась статья под заголовком «Почему я порвал с религией». В качестве автора стояла фамилия известного во всей республике и на Северном Кавказе учёного-арабиста, уже отсидевшего в сталинских лагерях десять лет и испытавшего тяготы жизни в депортации. Многие его ученики в настоящее время известные религиозные деятели. Все знали, что он не мог написать такую статью, тем более что русским языком он владел очень плохо. Его заставили поставить под написанным свою фамилию. Время было такое. Факты из истории чеченцев замалчивались, события искажались. И в начале 80-х на свет появилась та самая пресловутая концепция о якобы добровольном присоединении Чечено-Ингушетии к России, к России, которую Ленин в своё время охарактеризовал как «тюрьму народов» и каковой её всё время знали чеченцы. Да, «есть Россия и – Россия». Россия великого многострадального народа. Россия великих мыслителей, поэтов, художников слова и кисти. Наше поколение с глубокой благодарностью вспоминает своих русских учителей, которые по распределению приезжали в самые отдалённые сёла горных районов нашей и других республик Кавказа. С таким же чувством глубокой благодарности я цитирую в этой работе высказывания российских журналистов, общественных, политических деятелей, которые своими словами и действиями выступали против ведения войны на территории Чечни, осуждали политику войны.
Но, к сожалению, не эта Россия определяла характер российско-чеченских отношений.