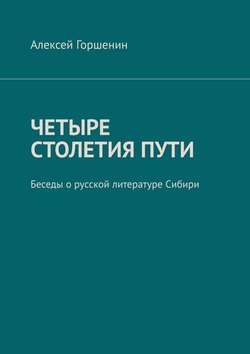Читать книгу Четыре столетия пути. Беседы о русской литературе Сибири - Алексей Горшенин - Страница 26
НАЧАЛО ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ
Между «молотом» и «наковальней
Король писателей
ОглавлениеЛитературный Омск первых послереволюционных лет и Гражданской войны трудно представить себе без поэта и прозаика, легендарной фигуры своего времени – Антона Семеновича Сорокина (1884 – 1928).
Вы знаете, что в Омске жил король,
Король писателей – Антон Сорокин,
И пламенно играл он эту роль,
И были помыслы его высоки…
Стихи эти принадлежат Л. Мартынову, но «королем писателей» без излишней скромности А. Сорокин называл себя сам. Личность колоритная и оригинальная, он любил шокировать публику. О его скандальных выступлениях и эксцентрических выходках ходили легенды. Однажды он выдвинул себя на Нобелевскую премию и разослал с экземплярами своей рукописи письма главам многих государств, где просил поддержать его кандидатуру.
На обложке одного из своих печатных изданий А. Сорокин типографским способом начертал: «Людей, ограниченных умом, просят не читать». На последней странице той же книжечки была помещена фотография скульптурного портрета автора с надписью: «Проект памятника Антону Сорокину – сибирскому Киплингу, Джеку Лондону и Метерлинку».
Во всем этом, однако, был не просто эпатаж, стремление обратить внимание на собственную персону любой ценой, а и своя позиция. Называя себя еще и «первым сибирским рекламистом», А. Сорокин был убежден в праве писателя на саморекламу. («Талант должен верить в свои силы и не стыдиться говорить о своем таланте громко и всюду»28).
Но на практике самореклама приносила А. Сорокину больше неприятностей: злую критику его произведений, дурную славу полупомешанного сочинителя у части читателей, да и коллег-литераторов – тоже. Так критик Н. Чужак заявлял: «В лице А. Сорокина… мы имеем человека, несомненно, психически больного…».
А ведь при всем при этом «король сибирских писателей» как человек вовсе не соответствовал напяленной на себя маске литературного шута и эксцентрика. Он и сам в том откровенно признавался: «Я объявил себя гением. Имел ли я на это право – вопрос другой, так как в жизни я – самый скромный человек, не страдающий манией величия»29. Тем не менее, как следует из упомянутого уже стихотворения Л. Мартынова, А. Сорокин был для творческой интеллигенции Омска предреволюционной и революционной поры мощным центром духовного притяжения.
Но, не ценя спокойствия ни в грош,
Антон Сорокин собирал, неистов,
Вокруг себя шальную молодежь —
Мечтателей, фантастов, футуристов…
И действительно, кого только можно было не встретить у Сорокина! У него дома собирались художники, писатели, музыканты, ученые, актеры. Здесь читали свои стихи Л. Мартынов, В. Итин, знакомил публику с первыми рассказами будущий автор знаменитых «Партизанских повестей» Вс. Иванов. И, по его признанию, «люди быстро привязывались к нему, причем люди самого различного склада ума и художественных вкусов… Таких людей, как Антон Сорокин, было в Сибири мало»30.
Только ли необычное поведение являлось источником его магнетизма? Да нет, конечно! Как свидетельствует один из представителей «шальной молодежи» Г. Дружинин, «он развивал в нас вкус к художественному слову, знакомил с образцами высокого искусства». (А надо сказать, с некоторыми его достославными носителями А. Сорокин состоял в эпистолярной связи: он переписывался с Чеховым, Буниным, Андреевым, Арцыбашевым, Комиссаржевской…). Кроме того, он всеми силами помогал обосновавшимся в то время в Омске литераторам и художникам, которые частенько находили у него приют и даже спасение.
Что касается «рекламизма» А. Сорокина, то, кроме стремления заявить о себе, это был еще и своеобразный вызов разлагающемуся на глазах обществу, способ противостоять ему. Ведь очень часто личина свихнувшегося интеллигента А. Сорокину была нужна, чтобы сказать во всеуслышание очень серьезные вещи. В этом легко убедиться, прочитав хотя бы «Манифест Антона Сорокина», в котором он едко высмеивает деградирующее общество, или его знаменитые «Скандалы Колчаку».
Фрагменты этой книги впервые появились в печати в 1928 году, незадолго до смерти ее автора. Сквозным героем ее коротких новелл о жизни сибирской интеллигенции во время колчаковшины является сам А. Сорокин. Но здесь не просто автопортрет, а скорее объединенный трагикомичный тип одинокого интеллигента, который под маской шута, прибегая к эпатажу, ведет свою собственную бескровную борьбу с диктатурой Колчака.
Внешний эксцентризм А. Сорокина долгое время заслонял в нем большого интересного писателя. Очень плодотворного и разнообразного. За свою сравнительно недолгую жизнь он написал около двух тысяч произведений. Ценивший его талант А. Горький, настоятельно рекомендовал издавать книги А. Сорокина. Увы, призывы не были услышаны. Только в 1967 году Западно-Сибирскому книжному издательству удалось осуществить горьковское пожелание – выпустить полновесный сборник рассказов А. Сорокина «Напевы ветра».
Проза А. Сорокина неоднозначна и противоречива, как и ее создатель. В самых ярких и характерных своих произведениях он проявился как писатель с выраженной нравственно-философской направленностью. Возможно, оттого в поэтике и стилистике многих его вещей столь ощутимо воздействие Библии и восточного фольклора.
Если же говорить о литературных влияниях, то поначалу А. Сорокин сильнее всего тяготел к Л. Андрееву с его мрачно-трагической аллегоричностью и раннему А. Горькому с его романтическими легендами-сказками. Не случайно любимая художественная форма А. Сорокина – аллегория, а излюбленный жанр – короткий рассказ, новелла. В архиве писателя хранится множество легенд и притч на сюжеты библейской и восточной мифологии, дидактических рассказов, которые сам автор называл «стилизованными примитивами». А наиболее интересные и значительные среди них те, что развивают одну из главных в его творчестве тем – «киргизскую».
А. Сорокин хорошо знал жизнь и быт казахов (а почти все среднеазиатские народы в царской России назывались одним словом – «кыргызы»), их язык, культуру, фольклор. И это объяснимо, ибо он и родился на казахской земле, в городе Павлодаре, в богатой семье староверов-беспоповцев. Из Павлодара семья переехала в Омск. Здесь, после шести лет обучения, А. Сорокин был исключен из гимназии с «волчьим» билетом за незнание, как писал он сам в автобиографии, молитвы «Отче наш». Сорокин поступил счетоводом в управление железной дороги, где и прослужил много лет.
Крупных вещей у А. Сорокина на «киргизскую» тему нет, но в многочисленных рассказах, сказках, легендах и притчах, очень образных и красочных, он затронул многие социальные и духовные проблемы степного народа. Их героями часто выступают народные певцы, сказители-акыны; в тексты его «киргизских» произведений то и дело врывается народная песня, что, кстати, во многом отразилось и в названиях новелл: «Печальные песни Ачара», «Песня Джеменея», «Не пойте песен своих»… Поражает в «киргизских» рассказах А. Сорокина его способность вживаться в духовный мир чужого народа, умение его глазами видеть глубинный смысл явления.
Другой большой и важной темой в творчестве А. Сорокина стала антивоенная. Она проходит в ряде рассказов писателя. Антивоенным пафосом проникнута и одна из самых крупных вещей А. Сорокина – повесть «Хохот Желтого дьявола», опубликованная как раз в канун Первой мировой войны.
«Это мой шедевр», – говорил о повести автор. (Именно ее А. Сорокин сам выдвигал на соискание Нобелевской премии). Произведение действительно весьма впечатляет. Но нетрудно заметить, на что оно опирается. Кроме Библии, это два известных произведения русской литературы, появившихся несколько раньше сорокинского, – «Красный смех» Л. Андреева и «Город Желтого дьявола» А. Горького.
Как и в названных вещах, в повести А. Сорокина нет сквозного сюжета. Это тоже повесть-памфлет, направленная против войны. А. Сорокин видит в войне планетарный ужас и всеобщее сумасшествие. В художественном плане повесть «Хохот Желтого дьявола» с первых и до последних страниц являет собой громадную разветвленную метафору-перевертыш: автор превращает переносный смысл словосочетания «театр военных действий» в реальное, прямо-таки буквальное явление, чем еще резче высвечивает трагедию войны и еще больше подчеркивает «ее великий ужас».
В то же время А. Сорокин не только изобличает преступления войны, но и показывает ту социальную силу, благодаря которой возникает и развивается «золотолапый микроб» войны. И здесь А. Сорокин явно отталкивается от горьковского Желтого дьявола. Правда, его (Сорокина) «дьявол» – не традиционный золотой телец и угнетающая власть денег, а страшная космическая сила, подчинившая мир злой воле, сила, которая и является главной причиной кровопролитных войн между народами.
Зловещий золотой звон слышен и со страниц рассказов А. Сорокина об искусстве и роли художника в обществе. Звон чаще всего погребальный, ибо смертью или помешательством писателя, художника, актера они обычно заканчиваются. Трагедия художника, по мысли А. Сорокина, заключается в том, что, создавая шедевры, обогащающие души людей, он раздает все, чем владеет, и остается нищим. А. Сорокин хорошо понимал социальный смысл этой трагедии. Он видел, как денежный мешок становится хозяином мысли и вкуса, как начинает диктовать свою волю (очень современна мысль эта и сегодня!).
Есть у А. Сорокина очень поучительный рассказ «Свободное слово». Его герой – писатель – страдает оттого, что никто не публикует им написанное, где он говорит правду, одну только правду. Хозяева газет и журналов требуют лжи. Чтобы заработать на хлеб, герой рассказа начинает сочинять в состоянии опьянения, поскольку вино приглушало голос совести и позволяло ему отступить от правды. Его «пьяные» рассказы начинают охотно печатать. Приходит богатство, слава. Постепенно герой привыкает кривить душой, и ложь из-под его пера выходит даже тогда, когда он трезв. С приходом желанной свободы и исчезновением обстоятельств, заставлявших писателя лгать, душа его оказывается уже настолько растленной, что он уже вообще не в состоянии сказать слова правды.
Удивительно прозорливый рассказ! Многим писателям в разное время пришлось пройти через нечто подобное. И очень немногие сохранили в себе свою правду.
Мотив честности художника перекликается в творчестве А. Сорокина еще с одним – мотивом неоцененного по достоинству таланта, мотивом для самого этого писателя очень личным и больным, ибо он остро ощущал собственную недооцененность. В работе «Записки Врубеля» А. Сорокин создает образ гениального живописца (его, кстати, земляка-омича), которого не признает мещанское общество, от которого отворачивается любимая женщина, и слава к которому приходит уже тогда, когда он попадает в сумасшедший дом. И то, что печальная участь Врубеля, вынужденного «за двадцать пять копеек таскать на толкучку свои картины»31, – не исключение, А. Сорокин подтверждает и в ряде других своих публицистических выступлений. Так, с горечью пишет он о страшной судьбе поэта-самородка И. Тачалова. Напоминает А. Сорокин и о жалком существовании в условиях российского капитализма многих отечественных писателей. Вс. Иванова, к примеру, вынужденного три года проработать клоуном в балагане. А. Сорокин очень любил Сибирь, но тем трагичней его вывод: «В Сибири могут развиваться таланты, даже гении, для того, чтобы страдать…»32. Увы, и в этом, как показало время, «король писателей» оказался прозорлив.
Представление об А. Сорокине окажется неполным без уяснения его отношения к революции. Революцию он ждал. Развенчивая в своих произведениях капитализм, он был готов к ней, и ее, революцию, объявившую мир народам, право наций на самоопределение, решительно взявшуюся за уничтожение власти золота (то есть все то, против чего так активно всегда выступал А. Сорокин), поначалу радостно принял. Однако жестокость революционного террора и трагедия начавшейся Гражданской войны развеяли его радужные идиллии, и в одном из рассказов писатель восклицает: «И я, десять лет писавший против капитализма, веривший в торжество социализма, не знаю, какими словами кричать мне!» Во многих рассказах-притчах послереволюционных лет А. Сорокин настойчиво проводит мысль о том, что всякая революция способна заменить лишь одну форму рабства другой. Писателю кажется, что революционный переворот может перевести только к анархии и неуправляемости. С приходом к власти Колчака и оказавшись в центре его жесточайшего режима, А. Сорокин снова меняет взгляд на революцию, поскольку колчаковщина оказалась еще страшнее диктатуры пролетариата.
А. Сорокин советского периода (а это восемь лет его жизни) мало похож на прежнего бурного и эксцентричного «короля писателей», «гения Сибири» и «рекламиста». Теперь он «становится просто писателем Антоном Сорокиным, скромно, в меру своего дарования, участвующим в деле создания новой литературы»33. А изменился он так потому, что в новых условиях изображать «шута Бенеццо» сделалось бессмысленно, ибо «исчезла литературная конкуренция, и каждое подлинно талантливое слово принималось с благодарностью, если оно выражало близкие народу идеалы»34.
Проще же говоря, А. Сорокин приходит, в конце концов, к идее сознательного служения революции, а тем, кто обвинял его в альянсе с советской властью, он откровенно заявлял: «Писатель должен быть агитатором. И я, Антон Сорокин, продался. Продался… за большую цену, и цена эта – лучшая жизнь для новой страны…»35.
То ли действительно отсутствие конкуренции сказалось, то ли просто загнав себя в прокрустово ложе «сознательного служения революции», но в середине 1920-х годов А. Сорокин фактически перестает быть самим собой. От прежнего, оригинального и яркого художника в последние годы его жизни мало что осталось. Нравственно-философскую направленность в его творчестве потеснила идеологическая тенденциозность, а сам он иной раз напоминал героя своего рассказа «Свободное слово». И только иногда, как неожиданное солнце в редкие просветы свинцовых туч, прорывался к читателям хорошо знакомый, независимый и самобытный А. Сорокин, для которого литература – это в первую очередь средство «сказать то, что хочешь». Именно таким предстает он в своеобразном исповедальном лирическом эссе «Человек, который еще не умер», где писатель итожит жизнь, признаваясь в сокровенных думах и крахе многих своих иллюзий.
Последние свои годы А. Сорокин провел в Москве. Солнце «короля писателей» неудержимо закатывалось…
Но, как говорится: «Король умер и – да здравствует король!» Ничто талантливое не исчезает бесследно. И новые поколения читателей еще сумеют по достоинству оценить неповторимое творчество А. Сорокина.
28
8 А. Сорокин. Таланты Сибири и золото. – Омск, 1917, с. 11.
29
9 Цит. по кн. Антон Сорокин. Запах родины. – Омск, 1984, с. 238.
30
10 Там же, с. 236.
31
11 Таланты Сибири и золото. – Омск, 1917, с. 4.
32
12 Газета для курящих». 1919, 4 февраля, №1. (Редактором ее единственного номера был А. Сорокин).
33
13 Беленький Ефим. Антон Сорокин. // Послесловие к кн. Антон Сорокин. Запах родины. – Омск, 1984, с. 256.
34
14 Там же.
35
15 «Сибирские огни», 1928, №4, с. 210.