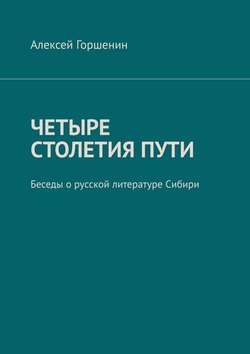Читать книгу Четыре столетия пути. Беседы о русской литературе Сибири - Алексей Горшенин - Страница 37
У СИБИРСКОГО КОСТРА
«Огнелюбы» «первого призыва»
Оглавление«Сибирские огни» располагали обширным и постоянно расширяющимся кругом «огнелюбов». А некоторые, связав с журналом с первых его шагов свою творческую судьбу, остались верны ему на всю оставшуюся жизнь. И в первую очередь это М. Кравков и И. Ерошин.
Максимилиан Алексеевич Кравков (1887 – 1937) в двадцатых-тридцатых годах минувшего столетия был достаточно известным разноплановым писателем. Его знали как прозаика и очеркиста, автора произведений для детей и писателя-краеведа. Но, пожалуй, наибольшую популярность приобрел он как мастер приключенческого жанра.
В. Зазубрин в свое время окрестил его сибирским Джеком Лондоном. Скорее всего, потому, что, как и у знаменитого американца, излюбленными героями романтических поэм в прозе М. Кравкова были люди сильные и цельные, с авантюристической жилкой в характере: охотники и золотоискатели, бродяги-каторжники и горняки-рудознатцы, ссыльные политзаключенные и аборигены сибирской тайги…
М. Кравкова всегда интересовала психология сильной личности, героя-одиночки. По этому поводу, касаясь его произведений, тот же В. Зазубрин писал: «В своих рассказах он берет сильного человека-одиночку, выходящего на борьбу со зверем, себе подобным или целым коллективом. Пусть коллектив, в конце концов, своей тысяченогой пяткой раздавит смелого одиночку. Одиночка даже вынужденный пустить себе пулю в лоб или проколоть себе сердце ржавым гвоздем, все же чувствует себя победителем. Он сам уходит из жизни, он никогда не дастся в руки врагу. Он свободен…»61
К характеристике этой уместно добавить, что героя своего М. Кравков испытывает не только жестокими обстоятельствами, но и сибирской природой, отчего изломы его судьбы часто непредсказуемы. Да и сюжеты произведений в неожиданных своих поворотах и стремительном беге нередко похожи на таежные речки в весеннее половодье.
М. Кравков умеет держать читателя в напряжении. В каждой его вещи – будь то детектив «Ассирийская рукопись», приключенческая повесть «Зашифрованный план» или остросюжетный новеллистический цикл «Рассказы о золоте» – есть все необходимое для любителей острых ощущений: тайна, поиск, погони, внезапные ситуации…
Тем не менее, главное внимание М. Кравков сосредоточивает не на внешних событиях, какими бы занимательными и остро драматичными они ни были, а на внутреннем состоянии человека в самые критические моменты его жизни.
И вот еще какая важная деталь. Герои М. Кравкова – люди, как правило, не только смелые, отважные, душевно красивые. Они, помимо прочего, упорно стремятся познать мудрую целесообразность природы и определить свое место в окружающем мире. Наверное, поэтому, кроме сюжетной увлекательности, динамичности, психологизма, проза М. Кравкова еще и очень живописна, поэтична, насыщена неповторимым сибирским колоритом. Чувствуется, что автор и его герои влюблены в природу, в Сибирь, которые для них – воплощение того, «от чего не хочет оторваться сердце». Подтверждение этому найдем мы в рассказах, повестях и очерках М. Кравкова «Таежными тропами», «Большая вода», «Два конца», Самородок» и др. Собственно говоря, именно горячая любовь к сибирскому краю, увлеченность тайгой, охотой, путешествиями и обусловили поэтичность и романтичность большинства повествований М. Кравкова.
Хотя появился на свет и вырос он далеко от Сибири. Родился М. Кравков в Рязани, в семье действительного статского советника. Родители умерли рано, воспитывали его тетки. После окончания гимназии он поступил в Петербургский университет, избрав специальность геолога-минералога. В 1908 году М. Кравков вступил в члены партии социалистов-революционеров – «максималистов», требовавших «решительных действий». А вскоре двадцатилетний студент был арестован по обвинению в покушении на рязанского генерал-губернатора. М. Кравкова признали «виновным в хранении взрывчатых веществ» и осудили на шесть лет каторги, замененных затем тремя с половиной годами одиночной тюрьмы. Много позже М. Кравков опишет в рассказе «Два конца» ощущения человека, несколько лет просидевшего в каменном мешке одиночной камеры.
В 1913 году М. Кравков был выслан на поселение в Тайшет, и с тех пор уже не расставался с Сибирью. Он много путешествовал, присматривался к жизни малых сибирских народностей. Это хорошо отражено в его лирическом очерке «Из саянских скитаний» и ранних рассказах. И не случайно В. Правдухин называл М. Кравкова «географом и любителем нехоженых дорог, неожиданных приключений». По разным свидетельствам он действительно был неистощим по части придумывания и проведения интереснейших путешествий и поездок.
После Февральской революции 1917 года М. Кравков избирался гласным Нижнеудинского уезда Иркутской губернии, был членом губернской комиссии по земским делам, а потом и управляющим Нижнеудинского уезда, где и проработал до конца 1919 года. В 1920-м М. Кравков стал заведующим Иркутского краеведческого музея. Но вскоре был арестован ЧК по обвинению в принадлежности к «максималистам». Правда, после подачи им заявления о выходе из партии дело было прекращено. Освободившись, М. Кравков уехал в Омск. Здесь заведовал подотделом музеев Сибирского отдела народного образования. Кстати, и первая его книжка – «Что такое музей и как его устроить в деревне» (1921) – была посвящена музейному делу. В начале 1922 года в связи с переездом советских учреждений из Омска в Новониколаевск М. Кравков очутился в новоявленной столице Сибирского края, где возглавил Сибкино и активно занимался организацией Новониколаевского краеведческого музея, директором которого он же и стал.
«Музейный» период своей жизни М. Кравков частично отразил в повести «Ассирийская рукопись» (1925), в которой запечатлел живую атмосферу, быт и нравы первых послереволюционных лет сибирского города. Сюжет повести детективно-приключенческий. Некий авантюрист настойчиво и изобретательно разыскивает в музейных коллекциях редкую «асссирийскую рукопись», которую Британский музей готов купить за большие деньги. Работники краевого краеведческого музея противостоят замыслам преступника, о чем и рассказывает автор, раскручивая хитроумную интригу. «Ассирийская рукопись» стала едва ли не первым сибирским детективом советской поры.
В 1922 году, сразу по приезде в Новониколаевск, М. Кравков знакомится с Л. Сейфуллиной и В. Правдухиным и активно участвует вместе с ними в работе над первыми номерами журнала «Сибирские огни». С этим изданием, где он регулярно выступал с повестями, рассказами, очерками, публицистическими и краеведческими материалами, у М. Кравкова будет связана большая часть его творческой жизни.
М. Кравков был удивительно разносторонней личностью. Кроме музейного дела, краеведения, кино, литературы, он занимался наукой, собирал геологические коллекции. Его волновало будущее природных сибирских кладовых, что подтверждают его документальная книга «Естественные богатства Сибири» (1928), очерки «Тельбес» и «Тельбесские зарисовки», написанные под впечатлением поездки на место возведения Кузнецкого металлургического комбината и рассказывающие о перспективах развития Сибири в связи с развернувшимся на ее просторах гигантским строительством первых советских пятилеток. Не удивительно, что М. Кравков оказался в числе организаторов и активных участников возникшего в конце 1920-х годов в Новосибирске «Общества по изучению Сибири и ее производительных сил», которое стало, по существу, первым научным объединением за Уралом.
В 1923 – 1934 годах, в составе геологоразведочных и географических экспедиций, М. Кравков побывал в Саянах, в Горной Шории, в низовьях Енисея. То, что довелось ему увидеть, узнать, ощутить и понять в этих путешествиях легло потом в основу большого прозаического цикла «Рассказы о золоте», а также ряда очерков, рассказов, повестей, посвященных разведчикам земных недр и горнякам.
В своем творчестве М. Кравков всегда стремился избегать политической и идеологической тенденциозности. Герои его произведений в этом плане обычно нейтральны. Отчего и сам М. Кравков в истории сибирской литературы стоит несколько особняком. Своеобразный «нейтралитет» писателя с приоритетом общечеловеческого над классовым и узкопартийным раздражал в те времена многих, а больше всего печально известных в советской литературе идеологов и критиков РАППа, которые обвиняли М. Кравкова в аполитичности, а то и прямо называли его «самым реакционным писателем Сибири».
В 1933 году последовал очередной арест М. Кравкова. В отличие от рапповского, выдвинутое в его адрес чекистами обвинение было очень даже политическим – писателя на сей раз заподозрили в принадлежности к контрреволюционной организации бывшего белого генерала В. Г. Болдырева. Но и это были пока лишь отголоски приближавшейся настоящей грозы, которая грянет четыре года спустя…
Последний раз М. Кравкова арестовали в мае 1937 года как члена некой мифической «японско-эссеровской террористической диверсионно-шпионской организации» и приговорили к расстрелу. В октябре того же года он погиб.
Творческое наследие М. Кравкова не так уж велико и не все в нем равноценно. Но лучшие его произведения и сегодня читаются с захватывающим интересом и подлинно эстетическим наслаждением, как, впрочем, и должно быть, когда дело имеешь с настоящим мастером.
Ивана Евдокимовича Ерошина (1894 – 1965) можно смело назвать литературным воспитанником «Сибирских огней». Он был активнейшим автором журнала, и все лучшее в его творчестве напечатано здесь. Хотя по месту рождения и первоначальной поре жизни сибиряком не являлся.
Родился И. Ерошин в селе Ново-Александровка Рязанской губернии, в крестьянской семье. Детство и юность его прошли в Москве и Петербурге.
Пробовать силы в литературе И. Ерошин начал еще в 1913 году в газете «Правда», где публиковал незамысловатые «стихопесни» и рифмованные агитки. Одним из первых российских поэтов приветствовал он Октябрьскую революцию 1917 года. Работал в большевистской газете «Социал-демократ».
В Сибири И. Ерошин (сначала в Омске) оказался в 1919 году с Политотделом Пятой Армии. В 1920 году начал сотрудничать в газете «Советская Сибирь», а спустя два года вместе с ее редакцией переехал в Новониколаевск. Но задержался здесь ненадолго. Как следует из признания самого поэта, «по страстной привычке к путешествиям» он отправился на Алтай, который надолго сделал его своим пленником. Зачарованный природой, фольклором и людьми этой горной страны, поэт выразил свой лирический восторг в книгах «Синяя юрта» (1929) и «Песни Алтая» (1937).
Видное место в поэзии И. Ерошина занимает любовная лирика. Герои его поэзии – люди, как правило, сильного чувства, чистые и цельные, верные в дружбе и любви, сердечные в отношениях с близкими. В лирических стихах И. Ерошина обычно отсутствует социальная окраска, зато умел он показать тончайшие оттенки человеческого чувства и, если более конкретно, – жителей Горного Алтая. Мотив дружбы народов – алтайского и русского – вообще силен в его стихах.
Ну а о художественном мастерстве И. Ерошина говорит хотя бы тот факт, что знаменитый французский писатель Ромен Ролан принял его стихи за подлинные песни самого алтайского народа.
61
14 Зазубрин. В. «Проза „Сибирских огней“ за пять лет». // См. сб. В. Зазубрин. Бледная правда. – М., 1992, с. 397.