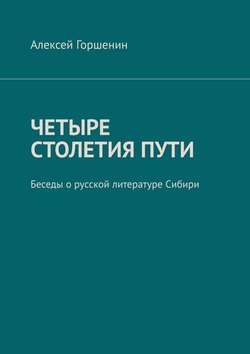Читать книгу Четыре столетия пути. Беседы о русской литературе Сибири - Алексей Горшенин - Страница 34
У СИБИРСКОГО КОСТРА
Зачинатели
ОглавлениеОсенью 1921 года эта супружеская пара переехала из Челябинска в Новониколаевск, где В. Правдухин был назначен заведующим Сибгосиздата. Вместе с ним работает в этом учреждении и его жена Лидия Николаевна Сейфуллина (1889 – 1954). А когда чуть позже возникает идея создания первого за Уралом «толстого» литературного журнала, Л. Сейфуллина принимает в ее реализации самое деятельное участие и становится первым ответственным секретарем «Сибирских огней» и одновременно активным автором.
В марте 1922 года вышел первый номер журнала, в котором писательница дебютировала с повестью «Четыре главы». Повесть рассказывает о жизни сибирской деревни накануне Октябрьской революции, увиденной глазами главной ее героини – сельской учительницы Анны. Тяжела, уныла, часто беспросветна эта жизнь, но под напором свежих социальных ветров все сильнее накаляются страсти, все обнаженнее противостояние добра и зла, все яростнее новое борется со старым, заставляя каждого, кто оказался в эпицентре борьбы, самоопределяться.
Повесть «Четыре главы» явилась живым откликом Л. Сейфуллиной на горячие предреволюционные события. Для современного читателя это произведение преимущественно историческое и познавательное. Но, безусловно, и высоко художественное, отличающееся большой плотностью событий, емкими красочными образами, глубокими психологическими характеристиками и своей особой стилистикой. Произведения Л. Сейфуллиной вообще подчас напоминают сочные и афористичные тезисы к будущим романам. Тем не менее, перед нами вещи художественно вполне законченные и состоявшиеся.
Да и не было нужды писательнице растекаться в многословных описаниях, ковыряться в незначительных деталях и подробностях. Успеть бы схватить, запечатлеть самую суть, квинтэссенцию увиденного, пережитого, перечувствованного…
А рассказать Л. Сейфуллиной своему читателю было о чем. В литературу пришла она уже достаточно зрелым (тридцати двух лет от роду) и немало повидавшим человеком.
Родилась Л. Сейфуллина в поселке Варламово Оренбургской губернии, в семье сельского священника, много сделавшего для ее духовного становления. Училась она сначала в церковно-приходской школе, потом в епархиальном училище и гимназии.
Будущей писательнице пришлось рано начинать самостоятельную трудовую жизнь. Работала она в городских и сельских школах учительницей, преподавала в воскресной школе для рабочих. Одновременно сотрудничала в газетах, участвовала в любительских спектаклях и даже в качестве профессиональной актрисы несколько сезонов ездила по России с гастролями. Потом снова учительствовала в деревне, где и встретила обе революции 1917 года.
После Октябрьского переворота Л. Сейфуллина много занималась культурно-просветительской деятельностью в советских учреждениях, ликвидацией детской беспризорности. Но не бросала и журналистику.
И вот в 1922 году, имея за плечами богатый и разнообразный жизненный опыт, Л. Сейфуллина становится профессиональным литератором. Вслед за первой повестью она в том же году на одном дыхании пишет в очередной номер «Сибирских огней» новую – «Правонарушители», в центре которой беспризорные дети, жертвы Гражданской войны.
Для России 1920-х годов беспризорничество было подлинным бедствием. Естественно, что тема эта волновала и многих писателей тех лет. Нашла она свое отражение в произведениях А. Макаренко, А. Неверова, Л. Пантелеева, Г. Белых, Вяч. Шишкова и др. Но одной из первых обратилась к ней именно Л. Сейфуллина. А поскольку писательница сама в свое время немало проработала с беспризорными (есть документальные свидетельства реального существования изображенной в повести детской колонии и прототипов персонажей), то и проблему знала, что называется, изнутри.
Повесть «Правонарушители» ценна, однако, не только правдивостью, достоверностью, но и ярко выраженным гуманистическим пафосом. В «Правонарушителях» Л. Сейфуллина» выступила не просто талантливым бытописателем, но и человеком, глубоко переживавшим трагедию беспризорничества, чувствовавшим себя лично ответственным за судьбы попавших в беду детей, чем вызывала у читателя ответную тревогу за будущее подрастающего поколения.
Повесть «Правонарушители» вызвала громадный интерес. И не только чисто литературный. Сразу после выхода в журнале она была издана отдельной книжкой небывалым по тем временам тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров и рассылалась по школам Сибири в качестве методического пособия.
Глубочайшая причастность к тому, о чем она пишет, стала характернейшей чертой всего творчества Л. Сейфуллиной. В том числе и таких известных ее повестей, как «Перегной» и «Виринея».
В отличие от других сейфуллинских вещей, «Перегной», несмотря на небольшой объем, – произведение эпическое и о событиях эпических. Пристальное внимание автора устремлено уже не столько к отдельной человеческой личности, сколько к многолюдной массе, через которую писательница стремится постичь суть происходящей в российской деревне революционной ломки. Повествование и начинается с массовой сцены сельского схода, на котором решается, быть ли земле «ничьей», отберут ли ее у богатых и передадут ли бедным. Но эпичность не исключает у Л. Сейфуллиной тонкого психологического анализа и точных глубоких характеристик отдельных персонажей, среди которых особенно ярко выписаны вожак бедноты Софрон и его антипод, кулак-начетчик Кочеров. В повести «Перегной» Л. Сейфуллина убедительно показала, в каких тяжелых борениях обретала деревня новую, несвойственную ей жизнь.
«Перегной» увидел свет в «Сибирских огнях» в том же урожайном для Л. Сейфуллиной 1922 году. А в 1923-м писательница вместе с В. Правдухиным переехала в Москву, и повесть «Виринея» появилось уже в столичном журнале «Красная новь».
В «Виринее» Л. Сейфуллина опять возвращается к теме, намеченной еще в «Четырех главах» и всегда волновавшей ее, – пути простой русской женщины в революцию. На этот раз писательница сосредоточивает внимание уже не на массе, а на личности красивой, и гордой кержачки Виринеи. Это самостоятельная, цельная и сильная натура. И хотя руководствуется она больше эмоциями, наитием, Виринея не так проста, как сначала кажется. За свою недолгую жизнь эта молодая женщина многого насмотрелась, о многом передумала, и пусть мало у нее было хорошего, она не опускает руки, не пасует, а протестует, открыто бунтует против сложившихся в деревне нравов. Правда, бунт ее стихиен, прямолинеен, на революционерку она мало похожа, однако активное отношение к жизни, неприятие лжи, фальши, свободолюбие и самостоятельность резко выделяют Виринею из круга односельчан. Этой незаурядной натуре по-настоящему не дано было раскрыться и развернуться – она погибает от рук врагов революции, но уже самим фактом своего существования еще раз доказывает, что «есть женщины в русских селеньях», способные на большие дела.
Образ Виринеи стал подлинным художественным открытием Л. Сейфуллиной, что, кстати, и отметил в свое время Д. Фурманов в статье «О Виринее»55, где, по существу, пропел гимн во славу этой женщине-бунтарке.
После «Четырех глав», «Перегноя» и «Виринеи», принесших писательнице не только всероссийскую, но и европейскую славу, Л. Сейфуллина пишет еще две крупные вещи: повесть «Каин-кабак» (1926) и роман «Путники», так и оставшийся незаконченным56.
В повести «Каин-кабак» речь идет о человеке, принимавшем активное участие в качестве партизанского командира в революционных событиях, но, как и многие твердокаменные большевики, совершенно не понявшем смысла новой экономической политики России. Являясь председателем волостного совета, главный герой повести Григорий Алибаев продолжает действовать партизанско-анархическими методами, устанавливая свои порядки. «Мне Москва – не указ, – заявляет он. – Власть на местах. За что боролись? Пускай там господам потакают, а мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, шалишь!..»
Подобный тип уездного диктатора выведен Л. Сейфуллиной и в романе «Путники» в образе бывшего фронтовика Катошихина, который, не доверяя «городским интеллигентам», стратегию классовых боев сводит к простой формуле: «Зря валандаемся… Прибрать и все!..».
Правда, не на нем заострено в романе главное внимание, а на двух интеллигентах: учителе Александре Литовцеве – «честно заблудившемся эсере», и его друге Лебедеве. Умный, искренне желающий служить народу Литовцев не смог встать в один строй с массами, вышедшими на арену социальных битв. Раньше он «передавал им прекрасные мысли, святые мысли», а когда потребовалось подтвердить их действиями, ему помешало «отвращение к культу грубой материальной силы, которая дается винтовкой, дубиной, здоровым кулаком, властью». И Литовцев, и примкнувший к большевикам Лебедев – они и есть «путники», которым никогда не дойти до «земли обетованной». Писательница попыталась противопоставить им «настоящего» коммуниста Степана Типунова, но образ его вышел куда менее убедительным.
В романе «Путники» Л. Сейфуллина взялась за новую для себя и всей молодой советской литературы тему «интеллигенция и революция», но точного художественного решения в силу многих причин не нашла. Возможно, потому роман так и остался не завершенным…
Творческий багаж Л. Сейфуллиной, в общем-то, невелик. Наверное, она могла бы написать значительно больше. Даже А. Горький поругивал ее за это. Главная же причина этой «скупости» заключалась в том, что Л. Сейфуллина, как и В. Зазубрин, никогда не писала и не желала писать «в угоду тенденции».
«Самое главное – быть в своем творчестве искренней и правдивой, тогда тебе поверят, и будут читать твою книгу», – говорила Л. Сейфуллина, и эти ее слова можно считать творческим и нравственным кредо писательницы, которому она неукоснительно следовала.
Более тридцати лет отдала Л. Сейфуллина литературе. Судьба людей на революционном переломе стала главной темой ее произведений. Но сложности и драматические противоречия первых десятилетий советской истории отразились не только в творчестве, но и в собственной жизни Л. Сейфуллиной. Однако, несмотря ни на что, до конца дней своих она осталась верна тем гуманистическим идеалам, которые нашли яркое художественное воплощение в лучших ее произведениях.
Валериан Павлович Правдухин (1892 – 1939), как и его супруга, был уроженцем Оренбургской губернии. И тоже родился в семье священника. У них с Лидией Николаевной вообще в биографиях и творческих судьбах имелось много общего.
Учился В. Правдухин сначала в духовной семинарии, откуда был исключен за приверженность революционным идеям, а окончил Оренбургскую гимназию, где получил диплом народного учителя. Работая учителем, В. Правдухин включился в революционную борьбу, вступил в партию эсеров. Но достаточно быстро его взгляды разошлись с ее программой, и в 1917 году он порывает с эсерами. В том же 1917-м В. Правдухин окончил историко-филологический факультет Народного университета имени Шанявского и надолго связал свою жизнь с педагогической и культурно-просветительской деятельностью.
Будучи на службе в Челябинском губернском отделе народного образования, В. Правдухин активно боролся с беспризорностью, участвовал в создании детских домов и трудовых колоний, читал лекции по литературе, а позже, уже с женой Л. Сейфуллиной создал один из первых в России детских театров и сам писал для него пьесы.
Но занимался В. Правдухин не только драматургией. Ко времени появления в Новониколаевске, был он уже сложившимся критиком и теоретиком литературы со своим взглядом на литературу и процессы в ней происходящие. Поэтому естественно, что он возглавил критический раздел новорожденного журнала и сам стал его ведущим автором.
В своих, статьях, во многом определивших направленность критики в «Сибирских огнях» и во всей послереволюционной литературной Сибири, В. Правдухин требовал от писателей глубокого проникновения в сущность общественных явлений, освещения особенностей жизни своего времени. Он умел поставить важнейшие вопросы литературного движения тех лет.
«Сибирские огни» стали для В. Правдухина творческой трибуной, с которой он в статьях «В борьбе за новое искусство», «Литература о революции и революционная литература», «Литературные течения современности», «Сибирские поэты современности» и др. отстаивал идейность и социальную значимость искусства, видел в литературе «сильное революционное оружие» и «агитационную мощь».
Вместе с тем высоко оценивал В. Правдухин реалистические и гуманистические традиции русской классики как фундамент нового искусства и горячо их отстаивал, а литературный процесс представлял в контексте общенационального и мирового художественного опыта.
В. Правдухин был в 1920-х годах одним из немногих критиков, у кого знание эстетических законов сочеталось с пониманием исторических закономерностей и тенденций общественного развития. При отражении самых важных и злободневных социальных проблем литература, по его мнению, должна оставаться в рамках необходимой художественности. Отсюда закономерно, что, развивая традиции революционно-демократической критики, В. Правдухин настаивал на необходимости критики синтетической.
В. Правдухин верил в расцвет литературы, рожденной революцией, верил, что новые писатели «нарисуют… истинное лицо Сибири». Но был противником схематизма, прямолинейной агитационности и пустого словесного пафоса. Не допускал он и эстетических скидок на «передовую идею», «верное направление», «революционное содержание» и т. п. Говоря о социальности литературы, ее неразрывной связи с современной действительностью, В. Правдухин искал в творчестве писателей-современников «живых капель будущего», умения «сочетать временное с вечным». Резко выступал он и против натуралистических тенденций.
Размышляя о задачах и принципах новой критики как неотъемлемой части молодой советской литературы, В. Правдухин приходил к выводу, что ее «в наших журналах нет». Однако его собственная литературно-критическая практика и работа возглавляемого им критического отдела «Сибирских огней» это утверждение опровергает. Критические статьи и рецензии, публиковавшиеся на страницах журнала в начале 1920-х, проникнуты духом заинтересованности в судьбе литературы Сибири. Однако далеко не каждое произведение о Сибири или созданное сибирскими авторами вызывало одобрение у критиков «Сибирских огней».
Критический раздел журнала отличало жанровое многообразие: обзоры литературы, проблемные статьи, литературные портреты, рецензии, отзывы, аннотации, объявления о новых книгах и даже критика на критику. Регулярно обозревали «Сибирские огни» текущую литературную периодику: журналы и альманахи. Журнал очень быстро реагировал на многочисленную литературную продукцию, выходившую в центральных и периферийных издательствах, демонстрируя сочетание почти газетной оперативности и основательной журнальной содержательности. Оперативность отклика не снижала его концептуальности, живой соотнесенности с текущим литературным процессом. Важно и то, что «Сибирские огни» с первых же шагов не замыкались в узко-региональных рамках. Необходимость сочетания сибирского, специфического с общезначимым стала одним из основных принципов работы журнала. Поэтому вполне закономерно появление на его страницах материалов о В. Белинском, А. Островском, В. Короленко, Ф. Достоевском, Р. Ролане и других классиках русской и мировой литературы, что станет традицией.
Все это, заложенное В. Правдухиным на заре существования «Сибирских огней», стало прочной основой литературно-критического раздела журнала.
Расставшись в 1923 году с Новониколаевском, В. Правдухин не терял связи с журналом, продолжая публиковать на его страницах литературно-критические материалы.
В. Правдухин был не только талантливым критиком и литературоведом, но и прозаиком. В этом качестве он дебютировал в четвертом номере журнала «Сибирские огни» за 1922 год с рассказом «Паутина» под псевдонимом В. Шанявец. В 1930-х годах в Москве, Ленинграде и Свердловске выходят очерковые книги В. Правдухина «Горы, тропы, ружье» (1930), «По излучинам Урала и в лесной степи» (1931), «В степи и горной тайге» (1933). Они проникнуты чувством восхищения перед красотой, богатством и многообразием мира природы. А в 1937 году появляется роман из истории уральского казачества «Яик уходит в море» (1937), где В. Правдухин раскрывается уже как художник эпического размаха.
Вероятно, со временем В. Правдухин мог бы вырасти в крупного прозаика. Но судьба не дала ему такой возможности. В конце тридцатых писатель был репрессирован, а в 1939 году расстрелян…
55
8 «На литературном посту», 1926, №2.
56
9 Частично опубликован в журнале «Сибирские огни» (1923, №3).