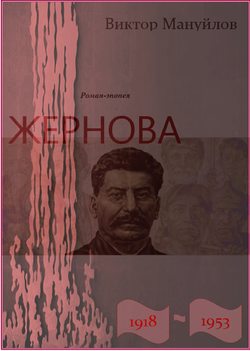Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга тринадцатая. Обреченность - Виктор Мануйлов - Страница 7
Часть сорок седьмая
Глава 7
ОглавлениеВернувшись в Москву и отчитавшись о командировке своему «прокуратору», Алексей Петрович уехал на дачу, и все лето провел там, корпя над своим романом. Будучи уже почти два года членом правления Союза писателей СССР, он лишь изредка наезжал в Москву, чтобы совсем не отстать от жизни, хотя радио в доме имелось, и газеты-журналы приносили более-менее регулярно. Но писательская жизнь в Москве замерла до осени, и Алексей Петрович возвращался на дачу, обзвонив одного-другого из своих коллег, убедившись, что ничего особенного не происходит, выяснив, что злые статьи о творчестве то одного, то другого писателя, еще не есть тенденция.
Это было первое лето, когда они с Машей не поехали в Крым или Кисловодск, первое лето, когда Алексею Петровичу захотелось тишины, покоя и безлюдья.
Он даже пару раз сходил по грибы в ближайший лесочек, но не столько набрал сыроежек и лисичек, сколько был захвачен нахлынувшими в лесу воспоминаниями, и те его скитания в июле сорок первого представились ему совсем в другом свете: то ли лес был другим, то ли опасности он тогда преувеличивал, а в романе так и вообще поднял их на высоту всемирной трагедии, так что даже испытал некоторую неловкость за написанное по горячим следам. И вот теперь, когда следы «остыли», а он повзрослел, – или лучше сказать: постарел, – пришло прозрение: о минувшей войне надо писать не так, а как-то по-другому: попроще, что ли, и без всякой пафосности.
Лето закончилось, за ним отшелестела падающей листвой и тихая осень, зачастили дожди, и Задоновы вернулись в Москву. А в Москве на писательском поприще уже разгорались нешуточные страсти, в которые Алексею Петровичу – в силу своего положения – пришлось окунуться с головой, хотя он относился к своему высокому положению среди писательской братии если не наплевательски, то и без энтузиазма. Ну, приглашали, ну, сидел, слушал, часто мало что понимая во всей этой говорильне, однако чувствуя, что говорильня сия имеет под собой не только идеологическую, практическую, профессиональную основу, но и личностную. Не сразу он разобрался, что к чему, кто с кем и за кого. И дело не в его какой-то особой тупости, а в том, что одни и те же люди сегодня брызжут слюной по поводу одних идеологических догм, завтра они же брызжут той же слюной по поводу прямо противоположных.
Задонов долго бы торчал пень пнем между двумя группировками, одну из которых возглавлял первый заместитель генерального секретаря союза Симонов, другую – сам генеральный секретарь Фадеев, не решаясь, к которой из них примкнуть, если бы не Иван Аркадьевич. Буквально на другой же день после возвращения Задонова в Москву, он пригласил Алексея Петровича к себе на Первомайскую, в часовую мастерскую, и, выслушав его рассказ о командировке в Ленинград, стал выпытывать у него, как он относится к фетишизации исключительно русских народных традиций и что думает о борьбе с космополитами. При этом на столе его лежал последний номер газеты «Культура и жизнь», в которой между многими прочими помещалась большая статья некоего Гуревича, направленная против патриотизма. Правда, в статье патриотизм прямо не назывался, но квалифицировался как отживший древний инстинкт самосохранения, за который цепляются отсталые, отягощенные предрассудками люди, что этот инстинкт сыграл свою определенную, но далеко не решающую роль во время войны, что пришла наконец пора выбросить его, как изношенное платье, на помойку или сдать старьевщику. В статье не назывались имена патриотов-писателей, но автор выражал изумление и возмущение, что даже и некоторые писатели, считающие себя интеллигентами и коммунистами, подвержены этому стадному инстинкту, что, вместо того чтобы пропагандировать своим творчеством новые межчеловеческие отношения и тем самым вести своих читателей в светлые коммунистические дали, они плетутся на поводу у отсталых элементов и возвещают о пришествии утра петушиными криками, в то время, когда есть часы и будильники.
Алексея Петровича буквально потрясла эта статья возвращением к двадцатым годам, когда русскому патриотизму приписывали оголтелое черносотенство, средневековое мракобесие, узколобый национализм, великодержавный шовинизм и, разумеется, антисемитизм. И кто приписывал? – самые оголтелые националисты!
Были в газете и еще несколько статей на эту же тему, но более осторожных. В иных поминались некоторые писатели, будто бы выпячивающие патриотизм как панацею от всех бед, в то время как решающим условием победы была и есть руководящая и направляющая сила партии Ленина-Сталина. Тут мелькали знакомые имена, которые Алексей Петрович по рекомендации Ивана Аркадьевича привлек к созданию художественной энциклопедии о войне: Бубеннов, Первенцев, Грибачев, Гроссман и другие, не самые выдающиеся из писательской когорты, но из выдающихся, пожалуй, лишь Фадеев преуспел в толстом романе «Молодая гвардия» отразить военную тему. Однако и Фадееву тоже досталось, но не за патриотизм, а за показ нетипичного случая стихийного сопротивления оккупантам со стороны подпольной организации молодогвардейцев, в то время как всё и всякое сопротивление велось под руководством подпольных партийных организаций.
– Вы читали статью Гуревича? – спросил Иван Аркадьевич, уставившись на Задонова глазами, мерцающими из узких щелочек.
– Да, читал, но не очень внимательно, – осторожничал Алексей Петрович, научившийся с некоторых пор и придерживать язык за зубами, и крепко думать, прежде чем произнести слово. «Все-таки сначала была мысль, а уж потом слово», – повторял он при всяком удобном случае, но не вслух, а про себя, и в качестве заклинания и напоминания себе о былом своем легкомыслии. И, видя, что Иван Аркадьевич ждет от него более определенных высказываний, добавил: – Весьма любопытная статья.
– Любопытная – не то слово, – проворчал недовольно «прокуратор». И дальше, чеканя каждое слово, точно вдалбливая их в голову собеседника: – Эта статья определяет политику партии в области идеологии на многие годы вперед. Пора уж нам подняться на более высокую идеологическую ступень, соответствующую тем рубежам в коммунистическом строительстве, которые мы достигли под руководством партии и товарища Сталина. Патриотизм… будем называть вещи своими именами… себя изжил, он обособляет народы друг от друга, противопоставляет их, наполняя их отношения недоверием и враждой. Скажите, как может татарин или узбек быть именно русским патриотом?
– Почему же непременно русским? – попытался возразить Алексей Петрович. – Он просто должен любить свою родину, землю, где он родился, где похоронены его предки, где жить его внукам и правнукам. Наконец, я что-то не читал, чтобы татарин или узбек выступали против патриотизма.
– При чем тут читали – не читали? И что значит любить? – перебил Алексея Петровича Иван Аркадьевич. – Что значит любить? – повторил он с едва сдерживаемым раздражением. – Как это можно заставить человека любить то или иное: землю, женщину, пельмени или еще чего-то? А если кто-то не способен, не может или любит, наконец, что-то другое? По-вашему выходит, что все должны любить одно и то же…
– Лично у меня нет никакого желания заставлять вас любить то, что люблю я, – усмехнулся Алексей Петрович, вдруг почувствовав, что его «прокуратор» выдал себя и злится оттого, что не сдержался. И еще он подумал, что все-таки где-то наверху происходит нечто, что так или иначе отзовется на всех и каждом. В том числе и на нем, Алексее Задонове. И происходящее почему-то очень тревожит Ивана Аркадьевича. Ему бы радоваться, а он почему-то испугался. Тем более что, судя по всему, не понимает, из-за чего разгорелся весь сыр-бор в последнее время. Как, впрочем, и сам Алексей Петрович, который знает лишь одно: если евреи, как в прошлые времена, снова нападают на патриотов, то жди каких-то перемен, гонений и затягивания гаек. Более того: сами по себе они нападать не могут, следовательно, линия ЦК и взгляды самого Сталина причудливым образом искривились, там увидели опасность в русском патриотизме и решили его поприжать. Ясно было и другое: весь патриотизм, имеющий место быть в художественных произведениях, уже отдавших ему свою щедрую дань, в том числе и в книгах самого Задонова, подлежит как бы изъятию и замене на пролетарский интернационализм – ни больше, ни меньше. И странная, между прочем, получается петрушка: с одной стороны – против патриотизма, с другой – против этого… как его… космополитизма, а главные застрельщики в этой кампании – отпетые космополиты. И как тут себя вести, сам черт не разберет.
И Алексей Петрович пошел на попятный:
– Собственно говоря, патриотизм патриотизму рознь. И, согласитесь, во всяком деле находятся люди, которые способны любую идею довести до абсурда… – И тут кто-то будто дернул его за язык: – Например, как вам нравится патриотизм израильтян?
Задав вопрос, Алексей Петрович замер. Он бы желал сейчас, чтобы вопрос этот не прозвучал, но слово – не воробей, и теперь, холодея внутри, ждал ответа.
Но Ивану Аркадьевичу, судя по всему, вообще не нравился патриотизм как явление, и даже само слово вызывало раздражение. И ничто в его глазах не промелькнуло, ничто не отразило его истинных чувств на его полном лице. Он, судя по всему, справился со своим раздражением и теперь обстоятельно и монотонно стал доказывать, что, мол, совершенно неважно, какой патриотизм, он сам по себе противоречит марксизму-ленинизму и вызывает раздражение у народов, не попавших в обойму патриотов.
Алексей Петрович отметил, что «прокуратор» впервые за все время их знакомства так долго и обстоятельно рассуждал на тему, захватившую каким-то образом те слои, к которым он принадлежал, терялся в догадках, пока не сообразил, что Иван Аркадьевич не только проверяет настроение своего подопечного, но и пытается идейно вооружить его перед предстоящим пленумом правления Союза писателей.
«Ну уж – шиш тебе», – подумал Алексей Петрович со злорадством, какого раньше за собой не замечал, совершенно избавившись от страха, вполуха слушая своего «прокуратора».
А по другую сторону стола бархатный говорок Чикина раскладывал по полочкам: патриотизм – в одну сторону, все остальное – в другую. И получалось, что интернационалисты и космополиты – одно и то же, но в разных исторических условиях проявляются по-разному.
В голове Алексея Петровича все перепуталось, с этой-то кашей он и отправился через несколько дней на пленум.