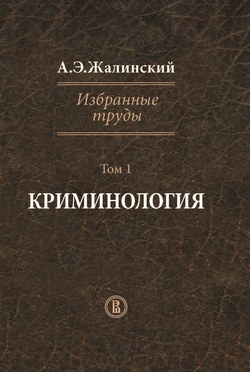Читать книгу Избранные труды. Том 1. Криминология - А. Э. Жалинский - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Раздел 2
Преступность
Коррупционная и организованная преступность в сфере гражданско-правовых отношений[52]
Оглавление1. Исходные положения. Необходимость их формулирования объясняется многими причинами. Среди них: трансформационные процессы, переживаемые российским обществом, что делает необходимым адаптацию к ним криминологии; возникновение в структуре криминологической науки по существу оппозиционного к конституционным основам общества течения, что ставит вопрос о выявлении позиции исследователя; бедность криминологии эмпирической формацией, поддающейся верификации. Исходными, с моей точки зрения, являются следующие положения:
а) современная криминология и криминологические исследования должны быть над политикой, но под Конституцией страны. Это, в частности, означает необходимость признания социальной ценности конституционных предписаний, их учета при формировании криминологических оценок и предложений, соблюдения начала лояльности к государству и обществу, что не исключает критики, но требует ее обоснованности;
б) признание способности современного общества решить социальные, политические и экономические проблемы страны, понимание того, что страна находится на стабилизационном этапе, позволяющем провести реальную модернизацию экономики, обеспечить экономический рост и, соответственно, улучшение, хотя и весьма медленное, качества жизни. Это, в частности, означает отказ от огульной, политизированной критики экономических процессов в рамках научных гипотез, оценок, выводов, необходимость выявления позитивного их влияния на поведение граждан; дифференциацию преходящих негативных процессов; анализ новых форм социальной активности граждан; появление новых центров влияния; реальную оценку процессов силового регулирования и саморегулирования;
в) ориентация на определенную социальную терпимость, основанную на понимании неизбежности возникновения ряда отрицательных явлений, в том числе связанных с коррупцией. Это, в частности, означает необходимость действительной экономии уголовной и иной репрессии: отказ от авторитарных методов управления либо их ограничение; понимание коррупциогенности процессов публично-правового управления и контроля; отказ от избыточного правового акционизма;
г) необходимость обеспечения криминологических суждений проверяемой как эмпирической информацией, так и признанными положениями самой науки криминологии и смежных с ней наук. Это, в частности, означает прекращение использования оценок коррумпированности страны, данных об объеме коррупции, характере организованной преступности, методика получения которых остается неизвестной и не может быть проверенной; отказ как от «украшательской», так и от алармистской («колокольной») криминологии;
д) необходимость обновления методологической базы криминологии за счет достижений современной экономической науки и практики, социологии, теории управления, организации. Это, в частности, означает постоянный и обязательный анализ собственно поведения в сферах политики, управления, экономики, социальных коммуникаций; взвешивание социальных ценностей, учет транснациональных связей, изменения характера потребностей, особенно таких, как потребность в безопасности, самореализации, достижении успеха и проч.
2. Состояние коррупции в контексте современной социально-экономической ситуации в России. Имеющиеся в литературе данные о коррупции в ее уголовно-правовом и ином противоправном понимании подразделяются на эмпирические и выводные, оценочные. Они обладают различным информационным потенциалом и надежностью. Эмпирические данные в основном заимствованы из официальной судебной статистики и отражают, по общему мнению, итоги деятельности правоохранительных органов, которые к тому же признаются неудовлетворительными. Их надежность может быть предметом научной оценки, поскольку криминологи располагают методиками исследования латентной преступности. Выводные, оценочные данные могут быть приняты как возможные, поскольку они не противоречат более надежным данным об экономическом поведении и экономических процессах в целом, например данные об объеме коррупции (или/и вывозе денег за границу) не противоречат данным об объеме производства, ВВП и проч. Но как обстоит дело в действительности, сказать трудно. Криминологам еще предстоит решать эти вопросы.
В связи с этим предлагается шире использовать данные экономистов и социологов о структуре коррупционного поведения в экономике, взятой в целом, и в смежных отраслях, а на этой основе попытаться выделить поддающиеся эмпирической характеристике:
а) черты, выражающие природу коррупции как процесса противоправного и по общему правилу экономически нерационального перераспределения капитала путем обмена административного «ресурса» на социально-экономические выгоды;
б) общие параметры поведенческой деятельности (экономической, политической, социальной), в рамках которой осуществляется коррупция;
в) конкретные или специфические признаки собственно коррупционного поведения (коррупционирования) в отдельных отраслях экономики, социальных сферах, регионах, на объектах и проч.
Идея состоит в том, что чем более предметно описывается поведение, соотносимое с коррупцией, и собственно коррупционное поведение, тем четче представления о коррупции и надежнее политические и управленческие решения, принимаемые в этой сфере. В плане научных исследований вообще целесообразно поэтому усилить внимание к структурированию коррупции, используя уже имеющиеся данные, а затем – к изучению отдельных структурных элементов коррупции. При этом здесь выдвигается гипотеза, по которой различия между структурными элементами преступности являются весьма существенными и обладают высоким коррупционным потенциалом.
Следует указать па полезность системного структурирования коррупции в криминологической литературе, проведенного В.В. Лунеевым[53], а в экономической литературе – Я.И. Кузьминовым, выделяющим коррупцию сверху, проявляющуюся в сети личных отношений, которые связывают чиновников с конкретными частными интересами и дают применительно к государственному аппарату основную часть реальных располагаемых доходов ответственных чиновников, и коррупцию снизу (со стороны граждан, семей и предприятий) как один из сопутствующих элементов теневой экономики[54]. С учетом этих соображений для получения более предметной характеристики коррупции целесообразно в каждом выделенном структурном элементе рассматривать в качестве их специфических признаков:
а) коррупционный потенциал, под которым понимается возможность обмена управленческого ресурса на те или иные выгоды и который может быть описан через спрос на содержание ресурса, т. е. управленческие услуги, виды услуг и их потенциальную выгодность (прибыльность) и другие параметры; б) коррупционный ресурс, который характеризуется через возможности данного субъекта оказывать определенные услуги либо обеспечивать получение таких услуг;
в) потребности в коррупционных услугах, т. е. определенные нужды лиц, не располагающих коррупционным ресурсом, но нуждающихся в его получении; коррупционные потребности формируются логикой правомерной либо противоправной деятельности, но могут формироваться лицами, имеющими коррупционный потенциал, причем чем больше раздут управленческий аппарат, тем чаще именно он формирует коррупционные потребности;
г) механизм коррумпирования, под которым понимается система наличных либо потенциальных связей между субъектами коррупционного потенциала и коррупционного ресурса, с одной стороны, и субъектами коррупционных потребностей – с другой, а также условия реализации этих связей, к которым можно отнести состояние правового регулирования, распределение управленческой компетенции и проч.;
д) внешние условия коррумпирования, к которым относятся состояние переносимости данного вида коррупции обществом и отдельными социальными группами; сильное или слабое государство, что отражает полноту и эффективность государственной власти и государственного управления, и другие, еще подлежащие выявлению параметры.
Такой подход к структурной характеристике преступности позволяет выявить ее зависимость от современной социально-экономической ситуации, т. е. контекст коррупции. При анализе этой зависимости, на наш взгляд, следует, во всяком случае, учитывать: вектор развития экономики (рост– снижение); связи между властью и бизнесом, причем их жесткое правовое и фактическое разграничение при сохранении необходимого государственного регулирования является позитивным процессом; состояние и направленность дебюрократизации, дерегулирования; защищенность предпринимательства; способность государства контролировать деятельность своего аппарата, разумно стимулируя его эффективность и законопослушность; состояние оплаты труда и социального обеспечения, т. е. распределения реально получаемых в сфере экономики доходов, и другие процессы[55]. Разумеется, при использовании возможностей экономической науки следует считаться с существующими здесь принципиальными разногласиями. Однако многие трудности снимаются тем, что для криминологии наиболее значимы онтологические характеристики, описание реалий в сфере экономики, а объяснения происходящих процессов могут быть использованы с долей должной осторожности.
3. О связях между коррупционным поведением и регулятивным законодательством. Наличие таких связей получило всеобщее признание. Законодатель предпринял ряд шагов, направленных на их оптимизацию. Экономисты и юристы единодушно признают необходимость создания оптимальной правовой системы, проведения судебной реформы. На наш взгляд, все же следует провести предварительный анализ связей между правом и поведением в сфере коррупции или механизма действия права в ней. Здесь, разумеется, должен учитываться ряд хорошо известных факторов:
а) распространенность прямых нарушений действующего законодательства;
б) зависимость его эффективности, в частности, от интересов различных социальных групп, особенно занимающих господствующее положение; состояние публичной власти, прежде всего правоохранительной системы и суда; слабость и несконструированность гражданского общества, а также сложившегося на современном этапе общественного сознания и поведенческих стереотипов.
В целом связь между правом и экономикой носит сложный, во многих случаях завуалированный вмешательством иных факторов характер. Более того, в условиях социальной трансформации и связанной с этим правовой аномии она вообще стремится к минимуму, если не к нулю. Так или иначе, необходимо выявление соответствующих показателей:
а) воздействия права на экономику или – зеркально – потребностей экономики в праве;
б) коррупциогенности и антикорупциогенности правовых институтов и норм.
Такими показателями могут быть:
а) расширение либо сужение компетенции адресатов правовых предписаний по вмешательству в права, статусы и фактическое положение третьих лиц, т. е. возможности создавать угрозы, предоставлять блага, менять положение на рынке;
б) усиление либо уменьшение определенности правового поведения, правовых отношений, объектами которых являются имущественные или неимущественные блага;
в) создание правовых или внутриправовых конфликтов;
г) резкое усиление фактических возможностей вмешательства в экономические либо иные отношения, статусы, состояние структур;
д) уменьшение гарантий защиты собственных прав, усиление неравновесности между потенциальными участниками коррупционных отношений;
е) деформация должностных стимулов лиц, могущих принимать дефицитные решения;
ж) выравнивание фактического положения субъектов на рынке и др.
В сфере экономики это можно рассмотреть на примере механизма рынка, как он описан В.В. Радаевым. По его мнению, основная задача развития рынка как системы институциональных ограничений (а право является таковым) состоит в том, чтобы проследить, как осуществляется доступ к ресурсам, производится контроль за деятельностью хозяйственных агентов, какие отношения складываются у них с представителями власти и силовыми (в том числе криминальными) структурами, как образуются сети неформального обмена услугами, как формируется этика труда и деловых отношений[56]. Нетрудно заметить, что право так или иначе осуществляет или стремится осуществлять регулирование этих элементов рынка, и в каждом случае программирования определенного поведения оно снижает либо увеличивает (пусть косвенно) коррупционный потенциал. Примеров здесь много. По доступу к ресурсам: квоты, свободное приобретение на рынке, ограниченный доступ к «трубе» и проч. Вместе с тем действие права зависит от характера коррупции внутри регулируемого поведения.
Правовые нормы должны иметь различное содержание и по-разному быть эффективны в случаях, когда коррупция представляет собой продажу услуг, индульгенций, угроз; осуществляется насильственно (коррупция опричнины или иного «человека с ружьем») либо добровольно и основана на относительно добровольном решении получателя благ; является дополнительным налогом, дополнительной платой, не приносящей дохода («откат» определенного рода); временно и частично полезной и, напротив, разрушительной.
Во всех таких случаях должны предупреждаться последствия коррупции. Особенно это касается: разложения аппарата; усиления неравенства на рынке путем направления на коррумпированной основе субсидий, выдачи кредитов (последний пример: дело по СБС-Агро); деформации в сфере подбора кадров, начиная с этапа комплектации учебных заведений; привлечения к уголовной ответственности невиновных и проч.; незаконного передела собственности, а проще говоря, ее незаконного отчуждения; избавления от исполнения обязательств по договорам; помощи в совершении собственно некоррупционных преступлений и др. При попытке обеспечения правового воздействия последствий коррупции необходимо учитывать контекст рыночных отношений, что является основой процедуры так называемого взвешивания расходов и выгод, что, собственно, всегда учитывалось при измерении эффективности управления (Ю.А. Тихомиров, Г.М. Миньковский и др.). Здесь необходимо проявлять крайнюю осторожность.
Возникновение или уменьшение коррупционного потенциала все-таки является, как правило, лишь одной из целей законодательного регулирования, и часто не главной. В связи с этим содержательно и технически нецелесообразным представляется принятие отдельных законов о борьбе с коррупцией и – шире – отрицательных предписаний, сориентированных только на регулирование коррупции. Это относится и к проекту федерального закона «Основы антикоррупционной политики», как он изложен в журнале «Государство и право»[57]. Существуют, мне кажется, основательные опасения общей неэффективности законов о борьбе с отдельными социальными явлениями – коррупцией, алкоголизмом, бюрократизмом и проч. Кроме того, следует учитывать, что экономический и – шире – общеповеденческий смысл регулятивных норм скрыт от общего прямого наблюдения и проявляется нередко парадоксальным образом.
Попытки четко спланировать некоторый объем услуг на рассчитанные потребности приводят к дефициту, отказ от планирования специальной поддержки вида деятельности – к преодолению дефицита и экономии ресурсов. Попытки реализовать такие экстремальные предложения, как административное лишение свободы ввиду неисполнения обязательств, хотя бы и денежных, введение ответственности инвесторов всем своим имуществом за действия юридического лица разрушат экономические отношения полностью, даже если будут развиваться в рамках плановой экономики. Напомним, что даже в СССР предприятие само отвечало по своим долгам, не перекладывало ответственности на государство, в чьей собственности оно находилось. Исходя из доступного анализа состояния и структуры коррупционной преступности в сфере рынка и с учетом имеющихся предложений экономистов и юристов, заслуживает специального рассмотрения по критерию коррупциогенности последовательное разграничение публично-правовых и частноправовых функций власти и бизнеса. Вообще преувеличение значения разграничения частного и публичного права кроме вреда ничего принести не может, но компетенция, права и обязанности власти и предпринимательства смешиваемы быть не могут (наглядный пример – сообщения о действиях, проводимых МПС, и т. д.). Здесь возникает проблема конструирования юридических лиц публичного права, разграничения коммерческих и некоммерческих организаций, что, по мнению некоторых цивилистов, является слабым местом современного гражданского законодательства[58].
Коррупциогенность, на наш взгляд, присуща деятельности общественных фондов. Это направление, очень тесно связанное с проблемами обеспечения законной конкуренции на рынке, когда коррупционные потребности проявляются, например, в стремлении получить крышу и льготы (примеры бесчисленны, начиная от многочисленных фондов инвалидов, участников различных войн, правоохранительных органов и проч.), существовании процедур государственного (публично-правового) управления, связанного с вмешательством в экономические отношения, прежде всего субъектов хозяйственной деятельности, сейчас активно развивается законодателем. В частности, заслуживает принципиального одобрения Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». Этот закон не применяется, правда, к налоговому, валютному, бюджетному, таможенному, банковскому и страховому надзору, лицензионному и многим другим видам контроля, включая оперативно-розыскные мероприятия, дознание, предварительное следствие, прокурорский надзор и правосудие. Следовало бы генерализовать, на наш взгляд, положения, содержащиеся в приказе Минфина России от 16 октября 2000 г. «Об утверждении положения но бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/200». По нему учитывается деловая репутация организации.
В соответствии с п. 27 Положения деловая репутация организации может определяться в виде разницы между покупной ценой организации (как приобретенного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств. Положительная деловая репутация при этом – надбавка в цене, уплачиваемой покупателем. Отрицательная – скидка с цены, предоставляемая покупателю в связи с отсутствием стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей и др. Здесь прямая дорога к уяснению, что стоят государству необоснованные обыски различных фирм и как они влияют на коррупционные потребности.
Таким образом, ограничение, например, процедур контроля в более широкой сфере может позитивно влиять на капитализацию юридического лица и в целом – на темпы экономического развития. Повторю: экономисты особенно сильно настаивают на преодолении бюрократического произвола вообще и дерегулировании в сфере экономики особенно. Развитие материально-правового подхода к экономическим отношениям требует более глубокой проработки способов и пределов осуществления гражданских и иных прав (особенно шиканы, т. е. действий обладателя субъективного права, совершаемых с единой целью причинить вред другому лицу, что, возможно, с некоторыми отклонениями в теоретическом плане весьма часто встречается при подготовке недружественного захвата предприятия). Здесь кажется недостаточной практика применения ст. 10 и 431 «Толкования договора» по сравнению, например, с имеющимся в ГК Германии предписанием пп. 242 и 157 «Толкования договоров» со ссылкой на п. 815 «Treu und glauben» и проч.
Разумеется, здесь кроются опасности, связанные с состоянием судебной системы, но в трансформационный период эта проблема, как минимум, все же заслуживает внимания; снижение карательной составляющей, в гражданском законодательстве в частности, серии предписаний, например ст. 169 «Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности», позволяющих применение конфискационных мер, т. е. взыскания в доход государства, а также ст. 243 «Конфискация», которая вообще не устанавливает никаких пределов конфискации, что на практике ограничивает более общие положения о защите всех форм собственности, поскольку может рассматриваться как специальная норма; правовое регулирование инфраструктуры рынка, в частности порядка получения госзаказов, квот; развертывание факторинговых операций и иных способов реструктуризации задолженности либо ликвидации; создание банков данных на добровольной основе и принудительных, в частности кредитных историй; развитие обществ лиц, занимающихся различными видами промысловой и иной предпринимательской деятельности; развитие надежной юридической помощи для аутсайдеров, риэлторских организаций, союзов оценщиков и проч. Колоссальное значение имеет судебная реформа. Наконец, можно поставить еще один, возможно, неожиданный, вопрос. Кажется необходимым более жесткое регулирование внеслужебного поведения должностных лиц. Бесконечные сообщения в прессе о времяпрепровождении видных чиновников – губернаторов, начальников управлений МВД[59] – в закрытых и, как подчеркивается, очень дорогих клубах с посещением ресторанов порождают вопросы о происхождении средств для оплаты, а проще – о коррупции. Здесь также нужна осторожность, но нельзя представителю публичной власти демонстрировать возможности вести сомнительную светскую жизнь во все еще бедной России.
Приложение
Некоторые данные по террористическим актам в Российской Федерации
Москва
Северный Кавказ
Другие области России
53
См.: Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные, правовые проблемы. М., 2001. С. 17 и след.
54
См.: Кузьминов Я.И. Тезисы о коррупции. Инвестиционный климат и перспективы экономического роста в России. М., 2001. С. 223–224.
55
См.: Ясин Е.Г. Модернизация российской экономики: что в повестке дня. М., 2001. С. 24 и след.
56
См.: Радаев В.В. Инвестиционный климат и перспективы экономического роста в России. М., 2001. Т. 2. С. 111.
57
См.: Государство и право. 2001. № 7.
58
См.: Гражданское право: Учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. СПб., 2001. Т. 1. С. 173.
59
См.: Известия. 2001. 10 ноября.