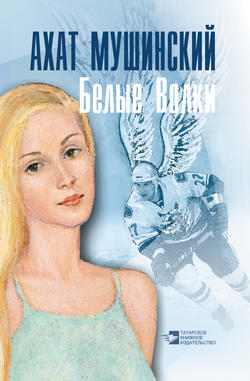Читать книгу Белые Волки - Ахат Мушинский - Страница 16
Часть первая
Глава вторая
14. Короче, Склифосовский!
ОглавлениеОпустись же. Я мог бы сказать – взвейся.
Это одно и то же.
Иоганн Вольфганг Гёте.
«Фауст»
Чего метаться? Я предложил другу, чтобы молодёжь сама подтягивалась к нам. Здесь тихо, уютно, и нет для знаменитой троицы сторонних, любопытных глаз и ушей.
– Свои проблемы обсудите спокойно, а я самовар поставлю.
На том и порешили.
Муху с Кашей, то бишь Сашу Мухина и Руслана Кашапова, я хорошо знал. Впрочем, их полстраны хорошо знала. Не так сказал. И они меня знали. Мы были весьма коротко знакомы. Ребята со своим дядькой не раз бывали у меня.
Прибыли они через полчаса. И не одни. Когда я открыл им дверь, то передним планом передо мной выписался широкоформатный, голубоокий портрет Сергея Афлисонова. Он заговорщицки улыбался, поглаживая свои светлые, вьющиеся, но довольно коротко остриженные волосы.
– А это кто такой? – сделал я шутейно удивлённое лицо. – Пригласительный билет есть?
– Есть, есть! – зашумели за его спиной Муха с Кашей. – Пришли вот прикупить что-нибудь для частных коллекций.
– Тогда милости просим, господа!
В предыдущей главе я сказал, что мастерская моя расположена в старинном жилом доме. Не совсем так. Она разместилась в уникальном, 1912 года рождения, кирпичном двухэтажном строении, со сводчатыми потолками и высокими окнами, над каждым из которых чудом сохранившийся то вензель «N» в венке потёртой лепнины, то орёл, гордо раскинувший крылья, то четырёхзначная цифра, указывающая на юбилейную для Отечества дату – 100-летие победы в войне с Наполеоном. Но это к слову.
Мастерская моя – это не просто рабочее помещение художника, как может предположить непосвящённый читатель, а главная моя обитель и крепость. Здесь я могу укрыться от житейских дрязг и невзгод, здесь меня посещает несравненная моя любовница – Её Величество Вдохновение, и я выдавливаю свои чувства на холст, и он начинает весело звенеть под ударами кисти; здесь я принимаю друзей, отдыхаю, здесь, под её торжественными потолками, у меня пропадают хвори и усталость, душа моя тут омывается живой водой замыслов, и я вновь и вновь возрождаюсь, обнаруживая новые цели и собирая новые силы для достижения их.
Мастерская моя, если уж свидетельствовать сухим языком ЖКХ, – это две просторные комнаты, прихожая, кладовая, клозет, душевая – все условия для творчества на втором этаже дореволюционного дома: рай, одним словом, для художника – мо́ляра, как говаривали во времена бомбардира Петра I.
Воссели в гостиной – в комнате, что попросторнее, поухоженней, где можно опуститься на стул, не боясь замарать штаны краской, и где запах всяческих красителей-разбавителей не бьёт в нос эстетам, а лишь тонко щекочет ноздри. Здесь у меня, посреди комнаты, разместился один из мольбертов со всеми своими причиндалами и только что законченной картинкой, по стенам небольшая экспозиция в рамах и без, полки раскинулись с нестройными рядами книг и статуэток; под ними, на подсобных столиках, – поделки, различные баночки-скляночки, кисти, а также коллекция сияющих золотом старинных самоваров самых разных мастей и калибров. У одного из окон большой овальный стол с самоваром, но уже электрическим. Вокруг стола и диванчик, и стулья для гостей, рядом достопочтенный дубовый сервант с резьбой по фасу. В рабочей комнате царит другая обстановка. Всё, как положено для мастерской живописца, – рабочий станок, подрамник с испачканным холстом, на столах, табуретах тюбики, кисти… Здесь невзначай и покраситься можно. Но оставим затрапезную, при гостях прикрытую створчатыми дверями комнату.
– Прям-таки салон – не мастерская! – резюмировал, оглядывая гостиную и опускаясь в уют диванчика Афлисонов. Он у меня был впервые, хотя несколько раз и собирался прийти «за пейзажиком для подарка» и время назначал, но, видать, пока не суждено было.
С Кашей он был на весёлом, светящемся глазу. Муха трезв, как стёклышко, видать, по внутреннему графику выпало быть «бобом», извозчиком, стало быть. Впрочем, он не злоупотреблял, относился к этому делу равнодушно и терпеливо, в смысле: терпел пьющих своих друзей. Ну, как пьющих? Сезон вот закончился, можно же немного расслабить свои нервы, которые практически круглый год струной в тебе натянуты.
Каша извлекал из спортивной сумки и громоздил на столе марочную выпивку и разнообразную снедь, приговаривая: «Проголодался как волк!» Я тоже достал из холодильника «смирновскую», запотевшую.
Без церемоний выпили. Каша с Афлисоновым махнули по холодненькой, я решил продегустировать гостинца – армянского коньячка, Буля с Мухой трезвенничали – оба за рулём, хотя мои друзья порой в самом начале застолья позволяли себе принять немного до обильной закуски, не взирая на свои шофёрские обязанности, которые у них при коллективных нарушениях режима чередовались по им одним известному графику.
– Ну, что, волки, – прервал молчание я, подняв глаза на свои картины, – а кто будет духовную пищу поглощать?
«Волки» и их златоуст и пропагандист, кряхтя, как старики, полезли из-за стола, подняли ясны очи на экспозицию и пошли, переговариваясь, вдоль стен.
Свои картины на продажу в салоны и магазины я не ношу, вот так, друзья приходят, любители живописи, коллекционеры, заказчики, они в свою очередь новых жаждущих приводят…
Каша выбрал себе пейзаж с видом Волги. Небольшой мосток-причал, на перильцах которого сидит девчонка в смешном, длиннополом платье, мимо лодка гребёт против лёгких волн, вдали белеет парус одинокий, в сизой дымке другого берега брусничной капелькой опускается за горизонт далёкое, натруженное солнце. Реализм, с толикой наива.
Сергей Афлисонов положил глаз на берёзки в половодье. Говорит: «Прям надел бы щас сапоги, влез в раму и побрёл по талой воде меж красавиц белокожих».
Не торгуясь, ударили по рукам. Булатычу, понятно, не до покупок было. Но в обсуждении приобретённых друзьями полотен участвовал. Он тонко чувствовал живопись, об этом все хорошо знали, и Каша с Афлисоновым свои приобретения делали с оглядом на него. И здесь он – дядька! Я тоже ценю его мнение, люблю показывать ему свои новые работы, расспрашивать, пытать: а эта вещь как тебе, а эта? Мне кажется, из него самого получился бы замечательный художник. Я же помню, как он рисовал в начальных классах. Не уступал мне. На уроках рисования мы с ним были вне конкуренции, и художник-учитель давал нам в отличие от всего класса особые задания. Однажды, на ботанике, где речь шла о пестиках и тычинках, он взял да и набросал карандашом на отрезе ватмана одну из наших одноклассниц. Портрет её сделал. В полупрофиль. Сходство было поразительное. Это меня удивило, ошеломило, взвинтило, и я тоже стал рисовать карандашом, авторучкой, фломастером портреты одноклассников, родителей, соседей – всех подряд. Так и пошёл-поехал. А он – нет, у него рисование было так, для удовольствия. Ходу своему изодарованию он не дал.
– А это что за абстракционизм? – спросил Буля, подходя к дальней за стеллажом стене, на которой таились мои последнего времени (нельзя говорить «последние») работы, выполненные в отвлечённой от реалий форме.
– Это мой новый метод познания мира, – ответил я.
– И давно ты таким макаром мир познаёшь?
– Не помню уж, больше года, наверно.
– Смотри-ка, – хмыкнул Буля, – скрытный ты всё-таки парень.
– Да я вообще никому ещё не показывал. Рановато. Вот вчера повесил несколько картинок вместе, хотел через денёк отстранённым глазом посмотреть… А тут вы…
– А ведь интересно! – понимающе покачал головой подошедший за Булей следом Муха. – Особенно вот… девушка с часами вместо глаз или вот эта – разноцветные кружки по голубому квадрату…
– Это не кружки, а шайбы на хоккейной площадке, – сострил не отставший от друзей Каша.
– Ты же академию закончил! – воскликнул с укоризной в голосе Буля.
– И что? – возразил я.
– У тебя же классическое художественное образование…
– Я считаю, к абстрактному мышлению в живописи только после классики и можно перейти. Точней, имеешь право. И не только в живописи.
– Твоя же дипломная работа была особо отмечена академиками. Рыбачка там ещё, как живая, в лодке с сыном… Где она, кстати?
– Самовар вон вскипел, – остудил я пыл разошедшегося друга, – заваривай свой живой чай.
Махнул Булатыч рукой и пошёл к самовару. К абстрактному искусству у него было отношение сдержанное, хотя сам всю жизнь занимался весьма абстрактным делом – хоккеем.
Поколдвав над маленьким заварочным чайником, он разлил всем по чашкам-кружкам чай, произнося своё неизменное:
– Жизнь чая живого всего десять минут.
Сел на край диванчика, принялся, причмокивая, со вкусом тянуть горячую жидкость, обжигаясь и полуслушая трёп подвыпивших друзей по поводу приобретённых картин. Каждый расхваливал свою покупку, свой абсолютный вкус, который позволил сделать безошибочный выбор. Булатыч слушал, слушал и вставил:
– Что ж вы дамочку не купили с часами вместо глаз?
– Не всё сразу, – ответил Каша, ласково взглянув на своё приобретение – лодочку на Волге. Неспешно взял бутылку «смирновской», покрытую алмазным бисером, будто содержимое наружу стекла в холодильнике проступило, разлил пьющим, минуя воздерживающихся, подумал, продолжил: – Художник должен быть разнообразен, поднимем же за ма-а-астера, за его неувядающую живопись, которая радует глаз, греет душу и не стоит на месте. – Выпив, он стал рассуждать о скоротечности спортивной жизни и о расцветающем с каждым новым периодом времени, невзирая на возраст, мастерстве художников, писателей и прочих композиторов творческих профессий.
– Чем дальше в жизнь, тем выше у них мастерство. Не то, что у нас, краткосрочников. Не успел разогнаться-разыграться, а уже за бортом…
Его перебил Муха:
– Короче, Склифосовский, зачем мы сюда пришли, слушать твои лекции?
– Гм-м, да… – осёкся Кашапов и потянулся к дядьке: – Понимаешь, Булатыч, завтра ведь это самое… – Он кивнул на Афлисонова. – Нашего Серёжу кончать будем.
– В смысле?
– В смысле… Организованно, всем табором.
Опять вмешался трезвый Муха. Он объяснил, что завтра с утра назначено общее собрание команды, на котором все «волки» должны будут подписать какую-то бумаженцию с требованием удалить Сергея Афлисонова из комментаторской рубки.
– А почему я не знаю? – поинтересовался Буля.
– Тебя же не было, отпрашивался, – ответил Муха. – Установка: подписать! И всей стаей, как один.
– А то, – набычился Каша, – как же без помощи команды справиться?! Великолепный тактический ход придумал Ломоть. Ох-ох, говорят у нас на Вятке, много в нём блох.
Афлисонов вылез из кресла, заходил по мастерской кругами:
– Какое он имеет право? Ломоть проклятый! Его дело командой командовать, а не журналистами. Тоже мне, многоборец нашёлся!
Высказавшись, он опять повалился в объятия диванчика и притих. Зрачки в его голубых глазах то ли от выпитого, то ли от пасмурных дум, словно бы растворились, они сделались светлыми-светлыми и большими, и он моргал, как слепой или очень обиженный человек. Всегда напористый, уверенный в своих силах и правоте, он тут, в мастерской, сидел, как пришибленный.
– И что, будете подписывать? – после некоторого молчания тихо спросил он.
– А куда мы денемся! – вздохнул Муха, добавляя себе в чашку из самовара кипятку. – Рычагов воздействия на нас у Ломтя со Сватом, сам знаешь, хоть отбавляй.
– Проклятый Лом! – стал медленно закипать свекольно покрасневший лицом и шеей Руслан Кашапов. – Откуда он взялся на нашу голову? Я ему морду набью.
– Этого только не хватало! – наконец подал голос наставник молодёжи, дядька Равиль Булатов, которого, я заметил, молодые друзья и партнёры по фабрике труда Булей вне хоккейной площадки больно-то не называли. – Во сколько собрание?
– В десять, – ответил Муха. – Мы сегодня там были. Ребята в глаза друг другу не смотрят. Зато Лом важный ходит, грудь колесом.
– Как всегда! – вполголоса прорычал пылающий огнём Каша. Он наполнил рюмки и опять повторил свою мысль, только другими словами: – Нет, определённо у него сдвиг по фазе, короткое замыкание в башке, его надо срочно заземлить.
Булатыч неожиданно для всех рассмеялся и по-отечески ласково сказал:
– Откуда ты, Каша вятская, электрических терминов нахватался? – И не дожидаясь ответа от аппетитно захрумкавшего после рюмашки солёным огурцом партнёра по звену, сказал уже серьёзно: – Давайте, ребята, не хорохорьтесь, не ломайте свои коньки. Всё нормально будет. А ты, Серёжа, не раскисай раньше времени.
Серёжа Афлисонов, выпив, не закусывая, и обездоленно уронив холёные кисти рук с подлокотника диванчика, без всякого выражения в своём комментаторском голосе произнёс:
– Один умный человек сказал: настоящее счастье в том, чтобы беспрепятственно применять свои способности, в чём бы они ни заключались. А как мне теперь применять свои способности, когда ни с того ни с сего такой облом.
– Да, об-Лом… – поиграл словами Муха.
Но Афлисонов не обратил на это внимания:
– Вон, – кивнул он в мою сторону, – хорошо Марату, натянул холст на подрамник, взял кисточку, обмакнул в краску и применяй свои способности, сколь душе угодно. И никаких тебе препятствий, локтей, Ломтей, Ломов, обломов… Мастерская художника – это тебе и остров свободы, и неприступная крепость. Неприступная для начальствующих самодуров и всяческих претензий ихних и капризов. А комментаторская кабина… От кого только она не зависит! Не понравилась вот моя трескотня Лому, и привет тебе, Серёжа Афлисонов, собирай манатки, эвакуируйся, микрофончик только не забудь другому передать. Теперь вот мне как применяться, дома в унитаз вещать?
– Кто же у нас из телеведущих, как ты есть-то?! – недоуменно спросил Каша. – Кому ж микрофон передать? Не вижу окрест достойного.
– Найдётся…
– Говорю же, не паникуй, – прервал тележурналиста Равиль. – Тебя ведь поддержали на пресс-конференции. Солидные люди, организации… Значит, ты прав.
– И что из этого?
– А это главное.
– Да, самое главное, – подтвердил я, – быть правым. А уж твоя возьмёт или нет – это не так важно. Побеждённому порой лучше.
– Тебе легко философствовать с перспективой рисовать себе в своё удовольствие до глубокой старости, – обиделся Афлисонов.
– Марат, ты и в самом деле немного не в ту степь… – заметил негромко Равиль. – Понимаю, хорошая память и армянский коньяк в придачу, но сейчас не надо…
Не люблю нравоучений и всегда даю отпор всяким морализаторам, но пораскинув в той ситуации мозгами, я не стал затевать словопрений. Видать, сила инерции просто выплеснула на бедного Афлисонова что-то недосказанное и не совсем уместное тут. Хотя, что бедного-то? Всю жизнь процветал, и ветер постоянно дул в его развёрнутые паруса, и он нёсся по жизни, не оглядываясь и не встречая на своём пути ни рифов, ни отмелей, но вот первый же подводный пупырь, царапнувший днище его корабля, привёл в замешательство баловня судьбы, и в мозгах его произошёл опасный крен.
– Ладно, утро вечера мудренее, – решил подытожить разговор цвета варёного рака Руслан Кашапов. – Сказал же Булатыч, что всё будет нормально, и не переживай.
Но раньше недопитых бутылок сделать это не удалось. Разъехались, когда майские сумерки прихватили рощицу под окнами мастерской и когда с ранних, чистых трав приовражья поднялся густыми прядями туман.
Живописные покупки свои, с любовью выбранные и словесно оплаченные, взять с собой друзья позабыли.