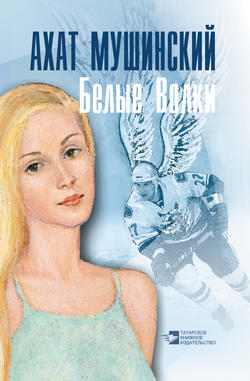Читать книгу Белые Волки - Ахат Мушинский - Страница 18
Часть первая
Глава третья
16. По блату Харламовым не станешь
ОглавлениеТо, что кажется лишённым смысла, порой имеет глубокое значение.
Морис Эрцог. «Аннапурна»
Тагир, по прозвищу Кузнец, обожает хоккей, всю жизнь собирается пойти со мной на какой-нибудь матч, но из-за своей неорганизованности до Ледового дворца так и не добравшись, винит во всех смертных грехах меня и следит за «волками» по телевизору.
Он, как всегда, рад мне, рад именитым гостям, которых сразу узнаёт и приглашает пройти в свой заповедник. Творческий и бытовой беспорядок в мастерской – это его порядок. На стенах картины, на стеллажах и подоконнике – скульптурные бюсты, литые фигурки, инструменты, различные банки, кисти в них… На столике о трёх ногах закрытого мольберта – до блеска очищенная палитра. На круглом, бытовом столике – початая бутылка водки, пиво, взрезанная банка кильки в томатном соусе, в кресле – раскрытая книга, в закутке, в ногах топчана, – белёсо тлеющий телевизор.
Тагир, безмерно талантливый живописец и скульптор, книгочей, эрудит, выпускник знаменитой Строгановки, запоем работает, запоем читает, и всё остальное тоже запоем. От этой всезапойности вся его творческая жизнь малопродуктивна. В смысле – продуктивна, если говорить о качестве, но мало, если иметь в виду количество. То есть продукцию свою он выдаёт на белый свет поштучно и никогда не тиражирует. Манере его ваяния и живописи я мог бы посвятить полкниги, но и этого мизерного отвлечения, связанного с ним, простит ли мне нетерпеливый читатель.
Но отвлечение это имеет своё значение. После знакомства моих разношёрстных друзей в тагировской мастерской последовало, на первый взгляд, походя брошенное признание Тагира, которое для меня не явилось откровением, но которое заставило взглянуть на многое другими глазами. Тагир сказал мне тогда:
– Я думал, хоккеисты дальше своих клюшек ни черта не видят и видеть не хотят. Захаживал ко мне один superstar, ещё в Москве, когда учился, – мат-перемат, нормального слова не услышишь. А Буля твой, да и Каша тоже – это же интеллигентные ребята.
Со времён Строгановки у Тагира была привычка при знакомстве хлопать нового знакомого ладонью в плечо. Даже не хлопать – врезать пятернёй кузнеца и ваятеля в предплечье или в грудь ничего не подозревавшего, а потому и расслабленного человека. Ростом он был невелик, но всей своей волжско-булгарской статью кряжист и силён. После такого знакомства у него сразу появлялись новые друзья или враги. Он и меня таким образом чуть с ног не сшиб, ещё до Строгановки, в художественном училище. В ответ получил точно такое же приветствие. Размахались мы тогда – кое-как нас однокашники разняли. С тех пор и дружим.
В плечо Равилю Булатову он хлопнул не так сильно. С утра, видать, не совсем оклемался, а может, настроение было несоответствующим бурному знакомству – лирическое, философское… Усадил дорогого гостя в кресло, в котором лежала раскрытая страницами вниз видавшая виды книга, на картонной, пообломанной обложке которой значился: Доктор Эренжен Хара-Даван. «Чингисхан как полководец и его наследие».
Буля улыбнулся. Тагир заметил и спросил:
– Читал?
– Конечно.
– А знаешь, откуда происходит его имя? – спросил Тагир.
– В общем-то, это титул, – помедлил Буля. – И состоит он из двух частей: «чингис», или «тенгис», и «хан». Первая часть переводится как «море-океан». А у второй несколько толкований. Привычное – правитель, князь… Но «хан» ещё переводится и как «кровь». Кстати, древнее название озера Байкал, откуда родом предки Тимучина, было как раз Тенгис. Так что, всё тут сходится.
– Этого в книге нет, – заметил Тагир. – Я думал…
– Как Ян, что ли?
– Ну, нет. Василий Ян – это чистой воды враньё. – Я подумал… – Тагир хитро улыбнулся. – Я вспомнил, что Рудольфа Нуриева называли Чингисханом балета. Ну а тебя сам бог велел называть Чингисханом хоккея.
– Брось! – махнул рукой Буля. – Я серый волк хоккея, если уж на то пошло.
– Белый, – поправил Тагир.
Тем временем Каша разгуливал по мастерской и разглядывал картины, рельефные, бугристые от обилия наложенной на холст краски, трогал выпуклости, приговаривая:
– У скульптора и живопись скульптурна.
Я взял кипу газет и, пошелестев немного, наткнулся на интервью с Булей, что меня при его популярности ни чуть не удивило, но обрадовало своевременностью появления у меня в руках. Оно было украшено его боевой фотографией, испещрено карандашными пометками, а два абзаца аккуратненько подчёркнуты. Я протянул газету Каше, который тут же те два отмеченных абзаца прочёл вслух и в лицах:
– Скажите, Равиль Булатович, хоккей – это работа, игра или что? Ответ: «Это творчество. Из всего известного нам живого мира только человеку дано сочинять стихи, музыку, писать картины и гонять шайбу». Журналист: «Но это, если откровенно, каторжный труд!» – «Притом с младенчества, – добавляет Булатов. – Как пианист, как скрипач, ты должен ежедневно над собой работать. По блату ни Рихтером, ни Харламовым не станешь. Конечно, за большие деньги сегодня можно и на Луну слетать, и в открытый космос выйти, но не на лёд большого хоккея».
Каша отложил в сторону газету:
– Во как!
Булатыч поморщился и заметил:
– Тебе бы, Каша, в драмтеатре выступать.
– Точно, – протянул в задумчивости мой эрудированный Кузнец, наполняя гранёные стаканчики водкой. – Это интервью, эта мысль… Почти по Шиллеру. Недавно вот у него, как будто специально к сегодняшнему разговору, прочитал. Не совсем дословно: в игре проявляется природа человека как творца, как созидателя красоты. Вообще, он считает, что игра – путь к красоте. И даже круче заявляет: не путь, а суть. Суть красоты.
– Как это? – не понял Каша, отрывая взгляд от очередного тагировского шедевра на стене мастерской.
Вопроса Тагир не услышал:
– Я вот что сперва грешным делом подумал насчёт этого интервью: за тебя, мол, там, Равиль-абзый, во всю журналист постарался. Свою концепцию от твоего лица выдал.
– Да, не-е… – возразил нехотя Буля. – Об этом я ещё сто лет назад задумался. После слов о хоккее одной политикессы. По телевизору, значит, она: десяток взрослых бугаёв в рыцарских доспехах с большой озабоченностью гоняют по льду что-то наподобие чёрной баночки из-под сапожной ваксы, и тысячи с виду нормальных людей за свои кровные деньги с ненормальным энтузиазмом переживают за них. Примерно так.
– Они все о нас одинаково думают, – поддержал дядьку Каша, подходя к овалу стола. – Вот, мол, дебилы, а деньгу зашибают… Ну, чем вы тут нас потчуете?
Словно бы в ответ Тагир окинул взглядом стол и собравшихся вокруг него, поднял стопку выше головы:
– За хоккей как одно из наивысших проявлений культуры человека!
– Честно? – переспросил Каша.
– Совершенно. – И осушив стопку, заключил: – Только человеку дано заниматься бесполезным.
После паузы он неспешно, но железно (всё-таки Кузнец!) пояснил свою мысль:
– Речь, повторяю, идёт не о хлебе и зрелищах, а о хоккее и других спортивных играх как о высоком искусстве. Я уважаю хлеборобов, сталеваров, ткачей, поваров, кулинаров, но их земной труд абсолютно рационален, полезен, зрим, его потрогать можно, взвесить, надеть, съесть, в конце концов! Но человека человеком делает не целесообразность, а поэзия. Да, она самая, которой в своём роде является и хоккей.
– Точно! – согласился Каша. – Мы с тобой, Равиль-абый, тоже, значит, поэты, понял?
– Большой хоккей – это всё-таки живопись, – попробовал вставить и я своё суждение. – Не зря же вот говорят, например: рисунок игры, чертить узоры на льду…
Но меня перебил Булатыч. У стола он один не притронулся к гранёному стаканчику с водкой и закуске, лишь из огородной зелени, воткнутой в виде букета в пол-литровую банку, вытянул кустик укропа и тем самым участвовал в застолье.
– Нет, – возразил он, – хоккей – это и не поэзия, и не живопись. Поэты… Это свободные люди. А мы – рабы. Мы все в цепях контрактов, в подчинении у тренеров, начальников, администраторов, нас могут отчислить из клуба, продать, обменять, отдать в аренду…
Мы с Тагиром дружно возразили, вразнобой закраснобайствовали:
– Хоккей на белом льду, как поэзия на чистом листе бумаги…
– И вы в ней поэты высшей пробы!
В дверь постучали…