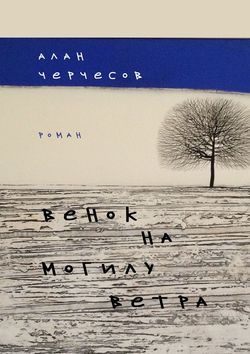Читать книгу Венок на могилу ветра. Роман - Алан Черчесов - Страница 17
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
XV
ОглавлениеПервым делом он вынудил их вернуть имена. Теперь без них было не обойтись. Вспомнив собственное, отдыхавшее от него без малого тридцать лет, он заставил их взамен призвать из прошлого свои. По крайней мере, два из них. Потому что отныне мужчин стало трое, а для троих уже было мало того, чего вполне хватало, покуда их было меньше на целого чужака – простых, как кивки, указаний на то, который из двух имелся в виду, когда двое других (включая женщину) говорили о нем или думали «он». Отныне «он» всегда означало больше, чем один, а потому – и меньше любого из них, взятого в отдельности, так что без имени могли теперь обходиться лишь двое: женщина да тощий черный пес, невесть откуда взявшийся в ущелье, где не было триста лет никаких имен и даже самая память о них была выскоблена ветрами, обглодана рекой и стерта онемевшим временем. В его появлении здесь ничего случайного они не увидели. Не только потому, что в присутствии чужака любая мысль о случайности казалась им нелепостью. Штука была еще в том, что с первых дней знакомства с обитателями этого странного бессобачьего мира пес проявил неуемную преданность как раз к тому, кто был похож на него, как дождь на воду, как бывает похож зов на эхо или, скажем, ступня на оставленный след. Повсюду сопровождая чужака и ни разу при том не удосужившись благодарного его внимания – трепки по холке, отрывистого свиста или вкусного щелчка ленивых добрых пальцев, – он мгновенно поджимался и свирепел, стоило кому-то другому шагнуть в его сторону, слишком приблизиться или неосторожно вознамериться пройти мимо. Не зная, как он здесь оказался, и зная, что никогда о том не узнает, тройка «старожилов» тем не менее понимала, почему это произошло: рискнув возвести стены посреди забытых смертей, они сами подготовили его появление. Так повелось, что всякому хадзару нужен страж – отгонять от ворот непрошеных гостей да не в меру назойливых духов. Впрочем, здесь это значило одно и то же (если, понятное дело, не причислять сюда же чужака, но только ведь он, по уговору, гостем не был). По уговору, чужак гостем не стал, а потому, глядя, как чахнет день ото дня та, с кем он делил в тревоге ложе, мужчина, наконец, решил, что дальше так нельзя.
– Пойду и скажу ему, – он словно бы ее предупреждал. – Утром я дам ему знать, что все решено.
– Которому из них? – уточнила женщина, хотя могла бы догадаться.
– Тотразу, – пояснил мужчина. – В конце концов, я старше…
Ударили холода, и строительство моста пришлось отложить. Входить в ледяную воду им было не привыкать, но вот выбираться затем на подернутый инеем берег было равносильно самоубийству. За эти месяцы у них скопилось кое-что из еды, чтобы переждать на берегу длинную зиму: погреб был на три четверти набит сухим вяленым мясом и копченой рыбою. Потеплу они даже успели засеять семенами пришельца возвышенность, откуда прежде пришлось им выполоть всю траву и очистить площадку от гальки.
Закутавшись в бурки, друзья смотрели за реку, туда, где желтыми вязанками лежали струганные доски.
– Постарайся понять, – убеждал мужчина, избегая глядеть другу в лицо, – бабьи глупости, я согласен. Только это ничего не меняет, потому что он не уйдет, а она не уймется.
– Выходит, он взял нас измором? – спросил друг и внезапно в приступе ярости швырнул камнем в воду (мгновенный глоток и за ним – ничего: ни следа. «Прожорливая тварь», – подумал он о реке).
– Он дал нам порох и семена, – напомнил мужчина. – И потом, больше он никуда не пойдет. Упорствовать тут ни к чему.
– Зачем он здесь? Чего он хочет? Ты знаешь? Я вот – нет.
– У нас нет выбора, – ответил мужчина. – Она не выдержит. Скоро посыпется снег, и тогда будет поздно. Начать мы должны сейчас.
– Стало быть, он взял нас измором, – упрямо повторил друг.
– Пусть так, – нетерпеливо кивнул мужчина. – Только он все равно никуда не уйдет. Это не гость. У нас в ауле соседей тоже не выбирали…
Серое, грузное небо дышало хриплым холодом им в лица. Лес вдали казался застывшей пеной непонятного грязного цвета. С тех пор, как друг убил прикладом кабана, жребий чаще выпадал на мужчину. Незадолго до приезда чужака он смастерил себе лук из гибкой ветви молодого бука, подвязав к нему тетиву из тонкого, почти прозрачного сухожилия подстреленной косули. Держать лук в руках почему-то было приятнее, чем ружье. Он был тугим, как живая плоть, и умел дышать ветром. Пустив стрелу, можно было следить за ее летящим жалом и получать удовольствие от того, как она вонзается в цель, не оскверняя ее никакой гнусностью – ни запахом паленой шерсти, ни свинцовым укусом металла. Так что в этой охоте из лука была не одна бережливость. Вчера он повесил его на крюк у входа в хадзар, а сейчас вспомнил о том с какой-то искренней жалостью. Зима еще не настала, а он уже томился по лесу.
– Хорошо, – сказал друг. – Только говорить ему будешь ты…
Мужчина вздохнул с облегчением и повернулся к нему, протянув свою кисть. Рукопожатие вышло беглым и кратким, но крепким. Друг быстро пошел назад, в сторону дома, мужчина последовал за ним.
Ацамаз стоял на небольшом пригорке в сотне шагах от хадзара и наблюдал, сложив на груди руки, за тучей, выползающей из-за хребта. Пес сидел у его ног, подняв черную морду, и, не мигая, следил за приближением человека.
– Бог в помощь, – поприветствовал Хамыц.
Тот кивнул и обратил к нему свое лицо. Гладкое, почти без морщин, оно, казалось тем не менее, никогда не ведало молодости. В темных зрачках не отражался свет. Чужак опять перевел взгляд на облако и неожиданно спросил:
– Как считаешь, дождь в нем или снег?
Хамыц пожал плечами и ответил:
– Кто его разберет? Пожалуй, что дождь. Для снега рановато.
Не поворачивая головы, тот ухмыльнулся тонкими губами:
– Как сказать. Стоит обрушиться снегопаду, и завтра нам покажется, что для любого дождя уже поздно. А коли через пару дней вернется солнце, под его светом мы станем размышлять о том, как еще рано для осеннего дождя… Разве не так? «Рано» и «поздно» – всего лишь причуда.
Хамыц раздраженно подумал: ты мне еще про яйцо и курицу расскажи, а вслух сказал:
– Твоя правда. По мне, однако, хорошо бы вместо снега – дождь. А еще лучше, если туча вовсе мимо проползет…
– Не проползет, – сказал чужак. – Только, сдается мне, мы еще пожалеем, что это не снег…
И тут Хамыц понял. Воздух внезапно сделался тесен, тяжел и как-то грузно обмяк. Птица, парившая в небе прямо над их жильем, сложила вдруг крылья и орлом опрокинулась вниз, потом, пронзительно крикнув, вынырнула из воздушной ямы и стремительно понеслась, улетая над лесом в серую пустоту.
– Буря, – выдохнул Хамыц, и Ацамаз кивнул:
– Похоже на то.
Лежавший смирно пес напрягся, вскинул уши и зарычал, однако тут же сбился на жалкое урчание. Туча вышла из-за хребта и потянула за собой отрепья ядовитых облачков.
– Ты хотел мне что-то сказать? – спросил чужак, впервые внимательно поглядев Хамыцу в глаза.
– Да, – признался тот и почувствовал, что сказать сейчас не сможет. – Давай отложим на потом.
Чужак согласно кивнул и сказал:
– Сейчас и вправду не до слов. Взгляни на коней.
Обернувшись, Хамыц увидел, как лошади, прибившись к коновязи, топчут невпопад встревоженную землю, словно боятся об нее обжечься. Бросившись к дому, он на бегу заметил, как с берега вздымается ему навстречу грязный пыльный столб. Лес за рекой уже потускнел, опух и стал быстро растворяться в желтом натиске крепчающего ветра. Друг уже выскочил из дома и торопливо подвязывал постромками ноги беснующихся коней. Придя ему на помощь, Хамыц схватил веревку и попытался стреножить своего коня, но тут же был отброшен в сторону копытом кобылы пришельца. Свалившись на спину, он услыхал могучий гул, бегущий к ним из-под земли. Спустя мгновенье Хамыца подхватили сильные, пронзительные руки, втащили в дом и бросили к стене. Там уже сидела женщина и, обхватив колени, смотрела на него взглядом, в котором ничего, кроме ужаса, он не распознал. Раздался жуткий грохот, и в хадзар влетело страшное, бесформенное тело воды, вмиг смело очаг, всмятку разбилось о стену напротив и ослепило их сотней пощечин. Вслед за ним, по-звериному вскрикнув от боли, в узкий проем двери ворвался яростный ветер, пьяно качнулся волной и сразу исчез, удрав в дыру посреди растерзанной крыши. Едва придя в себя, Хамыц взглянул на женщину и заметил кровь у нее на руках. Она держала их, подняв кверху ладони, словно изучая невидимое зеркало. Лицо и одежда на ней были мокрыми, и только глаза оставались сухи. Что-то упало ей на ладонь, и он увидел немыслимо яркую капельку крови.
– У тебя разбито лицо, – сказала женщина, поднялась и, не обращая больше на него внимания, вышла за порог.
Не узнавая, он оглядел помещение, похожее сейчас не на хадзар, а, скорее, на заброшенный хлев. Двое мужчин с непокрытыми головами стояли у стены по другую сторону дверного проема и, тяжело дыша, отряхивали на себе черкески. Потом младший из них нагнулся и, разгребая слякоть, поднял с пола две шапки, молча передал одну чужаку. Однако тот словно и не увидел. Сев на корточки, он склонился над чем-то черным у дальней стены и ощупал его всеми пальцами. Потом осторожно взял на руки. Хамыц встал и, вытирая кровь, шагнул в огромное пространство дня. Женщина шла, оскальзываясь на траве, в сторону реки и, когда он ее окликнул, только ускорила шаг. Кони стояли у опрокинутой коновязи, прибившись мордами к шее кобылы, и часто всхрапывали, выбрасывая из широких ноздрей завитки пара. Поникший лес сменил окрас и стал теперь похож на Хамыцеву бурку, которая валялась в грязи перед домом. До нее было несколько шагов – не то что до женщины. Та преодолела уже с половину пути и вот-вот готовилась миновать место, где прежде стояла их хижина. Не став подбирать свою бурку, Хамыц побежал. Кровь заливала губы и, попадая на язык, сбивала дыхание. Голова кружилась, и каждый шаг отдавался у него в ушах глухим хлопком.
Тем временем женщина скрылась за обрывом, и он, потеряв ее из виду, стал лихорадочно соображать, где лучше срезать путь. Так ничего и не решив, он побежал наугад к ближней запруде. Достигнув кромки оврага, он увидел краем глаза, как она метнулась к воде, и, вскинув руки, сорвался вниз, разбивая спину о каменистые выступы. Едва коснувшись ногами земли, он прыгнул ей навстречу, но, не дотянувшись какого-то мига до ее летящей косы, упал плашмя в слякоть. Все вокруг стихло и смотрело ему в затылок настойчивым глазом. Он поднял голову, но из-за грязи, залепившей лицо, не смог разглядеть ничего, кроме пятна размером с ладошку в сером тумане света. Потом он услышал смех, и сразу отчего-то ему сделалось все безразлично, как бывает только перед самым сном, и тут же вслед за тем – очень голо и грустно.
Женщина громко смеялась, постепенно обретая в его плывущем взгляде свои привычные очертания. Пытаясь подняться и предательски скользя коленями по дну своего унижения, какой-то крохотной, нечаянной, но проницательной частичкой сознания он успел подумать о том, что после этого смеха оба они перешли какую-то грань. Отныне прежняя власть его над нею уйдет навсегда, а если и сумеет сохраниться – так только ее, женщины, милостью.
Словно подтверждая эту мысль, из милости к его гордыне, она так и не подошла, чтобы помочь ему встать. Смех ее был искренен и беспечен, как у ребенка, и он вдруг с щемящим чувством прозрения ощутил, что любит ее так сильно и навеки, что не признается в том даже себе. «Я мог бы ее убить, – внезапно подумал он. – Мне хватило бы малого подозрения…»
Она стояла перед ним, заходясь в смехе, живее которого в целом свете было ничего не сыскать, и хохотала – над ним, над ужасом отчаянья и над рекой, от которых еще минуту назад ее отделял лишь какой-нибудь шаг. Мокрая, грязная, плачущая и родная, она было важнее всего, что оставалось у него за спиной, и того, что ждало его впереди. В сущности, ничего, кроме этого мига, и не было…