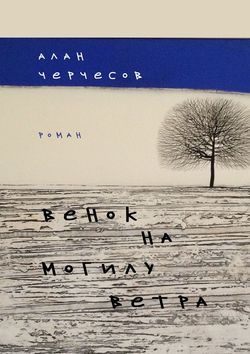Читать книгу Венок на могилу ветра. Роман - Алан Черчесов - Страница 18
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
XVI
ОглавлениеПес выжил. Сперва им показалось, что он не дышит, а в полуприкрытых глазах его стынет стекло. Чужак вынес его из дома и положил на циновку, предусмотрительно подстеленную Тотразом. Они долго молчали, впервые, пожалуй, этим не тяготясь, и смотрели на бездыханное тело, думая каждый о своем. Им снова удалось уцелеть, и оттого в гибели пса читался им некий негрозный укор. Признаться, куда сильнее досаждала Тотразу земля. Покрывшаяся повсюду, куда хватало взгляда, слякотью, она пахла теперь сырыми корнями и затхлой водой.
Узким глазом сквозь мутное небо проглянуло солнце, опустилось ладонью им на спины. Думая о том, куда могли подеваться все птицы, Тотраз увидел вдруг, что тело дрогнуло и по нему пробежала едва заметная рябь. Пока они гадали, чтó это было – последняя судорога или вернувшийся вдох, – жизнь робко заскулила мольбою и прильнула к собачьим зрачкам. Пес шевельнулся и задышал, взглянув на них из-под седых ресниц, и тогда чужак произнес:
– Слава богам, отходит…
Он посмотрел на второго, и тот послушно кивнул, направился в дом и через несколько мгновений вновь появился на пороге, но уже – с кубышкой и черепком от миски в руках. Чужак услышал, как в кубышке плеснулась вода. Наполнив ею черепок, Тотраз осторожно поднес его к собачьей морде и подождал, пока очнутся ноздри и вынырнет розовый тонкий язык. Пес покорно слизнул с черепка воду и задвигал лапами.
– Лежи, – приказал чужак, и он тут же повиновался, прижав к затылку уши.
– Ребро? – спросил Тотраз.
Вместо ответа чужак поднял два пальца и ткнул подбородком, указав на брюхо. Тотраз присмотрелся и увидел, как при каждом коротком выдохе под шерстью с левой стороны отчетливо проступают два острых вздутия. Глядя на них, трудно было отделаться от ощущения, будто там, внутри, застряла проглоченная псом рогатина. Костяшками пальцев чужак отер с собачьей морды пузырьки кровавой пены и, словно сам себе, сказал:
– Если осталось чем дышать, вытерпит. – Потом добавил, обратившись к Тотразу: – Сейчас держи.
Тот взял пса за передние лапы и почувствовал, как в них, слабо хрустнув, беспомощным ручейком прожурчала то ли боль, то ли ненависть. Скинув с себя кожаный поясок, к которому был подвешен охотничий нож, чужак встал поудобнее у собачьей головы, опустил пятку на землю, а носком крепко вдавил в нее мохнатое ухо. Потом склонился над псом и быстро ткнул пальцами ему в подбрюшье. Пес сильно вздрогнул, захрипел горлом и стих. Каким-то неуловимым, молниеносным движением чужак просунул под него поясок и ловко подвязал его двойным узлом на спине.
– Все, – сказал он, – Можешь отпускать.
Тотраз отошел в сторонку, огляделся вокруг и сказал:
– Вот тебе и река… Обгадила все в три минуты. Может, потому и прозывается Проклятой.
– Не поэтому, – ответил чужак. – Просто так легче…
Тотраз нахмурился и смерил его взглядом с ног до головы. Потом отвернулся и сплюнул через плечо. Чужак снова начинал его раздражать. Чтобы не думать об этом, он стал размышлять о том, как лучше будет наново справить крышу. Ясно, что балки на стропила они пустят прежние, потому что оставшиеся Хамыц захочет определить под крышу чужаку. Хамыц не отступится. Это уж как пить дать.
Едва он произнес про себя эти слова, как почувствовал жажду. Вспомнив, что вся вода из кубышки пошла на пса, он снова сплюнул в сердцах, подошел к своему коню, оттащил его от коновязи, сорвал с ног постромки и запрыгнул верхом. Поддев бока пятками, направил коня по дальней, пологой тропе к последней заводи, чтобы не встречаться с теми двумя.
Когда-то, давным-давно, он уже видел бурю. Правда, с этой она не шла ни в какое сравнение. В тот раз тоже срывало крыши, а еще ломало заборы и даже калечило скот. И все же давний тот ураган был просто взъярившимся ветром. Он свалился на их аул клубком горячей пыли, что катилась посуху через перевал и нагрянула к ним не с реки, а сверху, с бурого пекла небес, не знавших дождя целый месяц. Слышать тот ветер было не так боязно, как здорово интересно – и, пожалуй, не только оттого, что был он тогда мальчишкой, умевшим пугаться лишь грома да ночи, и совсем не страшился дня. Днем не могло случиться ничего худого, потому что все худое днем превращалось в неправду. Тот ураган был скорее чудом, сотворенным жарой из уныния белого солнца, постепенно, час за часом, превращавшегося в ожог. Ветер отхлынул от них, собрался эхом, пошептал за скалой, приосанился и опрокинулся на аул со странным хохочущим визгом. А уже через пару минут все было кончено, и, с трудом продирая глаза, они увидели, как скачет по ущелью вдаль его взлохмаченный вихор.
Тогда было смешно и громадно, потому что мир в самом деле оказался больше того, какой привык он встречать по утрам. Был он почти таким же, каким придвигался к нему в темноте, только на этот раз явился еще и не страшным – этакий исполин, решивший поиграть с ребенком. А потом пошел тихий заботливый дождь. Он был легким и добрым, как детский полуденный сон, и сочился с проемов в крыше серебристо-зелеными каплями. Только песок на зубах напоминал о буре. Овцы, заборы и куры были уже не в счет, потому что для чуда то была не цена…
Сегодня все было иначе. Он был уверен, что – из-за реки. А потому глубокомысленность пришельца, намекнувшего на ее невиновность, была им воспринята плохо. С тех пор, как Тотраз побывал у смерти в гостях, в нем обострилось какое-то особенное, внутреннее чутье, слышавшее жизнь так глубоко и верно, что всякий взгляд отныне, звук и мысль сверялись этим мудрым, тонким слухом. Он подсказал ему сейчас, что то – река. Тотраз не сомневался. Река была в самом деле проклята. И пусть она их все еще не отравила, – он знал, что это был обман. Они могли сегодня умереть. И был тому причиной не какой-то суховей, а вздыбившаяся вода, чуть было не настигшая их у порога. Словно нарочно, она ждала целых полгода, покуда взрастут стены, чтобы затем наброситься на них и в отместку за дерзость напрочь вымести жизнь из этих камней, принадлежавших ей, ей одной, вот уже три столетия. Чужак был глуп. Он полагал, что ему все дозволено: думать, решать, сомневаться и говорить вслух то, что в лучшем случае могло быть полуправдой, а в худшем – похоже на нее так, что было и не отличить. А потому был он опасен. Он не верил в знамения. Точнее, в то, что за ними стояло. Казалось, он даже не очень и испугался, когда буря ворвалась в дом и хотела их уничтожить. Пока она летела к ним, сшибая свет и воздух, он действовал так, будто в точности знал, как лучше распорядиться руками, удачей и временем, чтобы избежать ниспосланной расплаты. Он сделал все, чтобы они спаслись. Но при этом – сделал так, чтобы не было чуда. А потом захотел очернить еще и само знамение.
В нем не было страха, – не того, что порочит мужчину, а того великого страха, что только и является свидетельством почтения к тому, что даруется тебе вместе с сердцем, печатью на длани и святым человеческим трепетом и составляет вкупе с ними высший промысел и удел. Пришельцу было все равно, а такого не скроешь. С одинаковым равнодушием он встретил бы любой исход и, коли предпринял все, чтобы остаться в живых, – так только по привычке. Ибо он привык бороться, доказывая себе (кому другому из людей он не стал бы доказывать даже того, что по-прежнему жив, хотя это-то уже и казалось непостижимым, если смотреть ему прямо в глаза), – а заодно и своему единственному противнику, – что готов тягаться с ним силами хоть до второго пришествия и уж, по крайней мере, до последнего вздоха, и было это между ними как растянувшееся в целую жизнь состязание по путаным и жестким правилам, в котором один из них может повергнуть другого в любую секунду, но рискует при этом проиграть какой-то важный спор, а второй никогда не признает себя побежденным, хоть и прекрасно сознает, что победы ему не видать.
Но и это бы еще ничего. Гораздо хуже было то, что в этом втором надежды – и той уже нет и в помине, нету настолько, что его не заботит, каким будет конец и чем обернется его поражение: позором или славой, улыбкой или слезой. Это нельзя было назвать ни геройством, ни мужеством, потому что обычно и то, и другое рождается из чувства – негодования ли, гордости или чего другого. Но в том и дело, что в неспешной, молчаливой стойкости чужака чувства никакого не было, а вместо него в глубоком провале глазниц серым холодом давным-давно заиндевело дымкой безразличие. Вот чего не мог простить ему Тотраз: того, что чужаку равным образом наплевать и на жизнь, и на смерть, и на самую разницу меж ними. Был он в чем-то как река – не та, что на них сегодня обрушилась, а та, что час за часом, день за днем три века кряду старательно стирала все, что сковывало ее в выборе русла, пока не выскоблила все вокруг и даже внутри себя до последней дремучей пустоты. А после судьба – извечная ее соперница и сводня, – привела к ней трех наивных грешников и, только разбудила время, как тут явился он, кто сам – стихия, сам – строптивец и проклят небесами тем, что до сих пор не уничтожен, ведь было это лучшей карой – принудить жить того, кто сам того не хочет, кто равнодушен даже к смерти и видит в ней упрятанную в вечность тишину. Но он же горд при том настолько, что этой тишины не ищет, не просит и не ждет. Они вдвоем, река и он, чужак (да еще – черный пес), были ересью, кощунством и искушали Тотразову веру и вдохновенное наитие души его примером самонадеянного отреченья от всего, что могло быть начертано лишь небесным перстом, как, скажем, та мета, что вынес сам он из смерти черным шрамом у себя на лбу.
Иными словами, для чужака никаких чудес не было и быть не могло, в то время как для Тотраза весь мир с недавнего времени казался сплошь составленным из чудес и рассеивал их по его судьбе витиеватыми узорами, смысл которых был сразу непостижим, а может, и непостижим никогда, но только оттого не переставал быть смыслом. Вслушиваться в него и означало жить. А жить означало самое главное…
У запруды он спешился и опустил руки в воду. Она была мерклой и непрозрачной, как будто вымазана изнутри ненаступившими сумерками. Поднявшийся со дна ил медленно рассыпался в ней тягучими неправильными кольцами. Сама же река ничуть не изменилась, разве что стала наглее. Она бурлила в стороне от них и дышала Тотразу в лицо обманчивой свежестью. Изрыгнув на землю давно копившуюся желчь, река сделалась как бы легче и чище, и только вода запруды хранила в себе следы ее неизбывной испорченности. Пить из нее было немыслимо. Лучше было спуститься ниже и, встав у потока, ловить ладонями холодные пряди реки. Оставив коня утолять жажду у запруды, Тотраз пошел туда, где русло ширилось могучей громкой силой и поливало берег щедрой пеною. Странно, но на целом плоскогорье, вплоть до самых скал, не притаилось ни единого ручейка. Вода скрывалась где-то под травой участка, выбранного ими под семена, но до сего дня у них не доходили руки пробить поблизости от него хотя бы крохотный ключ.
Напившись, Тотраз уселся на камень и еще раз вспомнил то, что с ними сегодня произошло. Самым неприятным была его собственная безропотность, с которой он выполнил приказ чужака спешить в дом. Он даже не возразил, невзирая на то, что видел, как кобыла сшибла Хамыца с ног. Слава богам, он не утратил способности быть честным сам с собой, а потому некоторым оправданием такому поступку служило лишь то, что он, Тотраз, не струсил. Не будь рядом пришельца – и он, несомненно, скрылся бы в доме последним, даже если бы знал, что рискует не успеть. Он ни за что не оставил бы друга в беде, не окажись рядом чужак. Наверно, в любом случае он не должен был уходить оттуда раньше тех двоих. Однако почему-то сделал это, и сделал не раздумывая, словно подгоняемый внутренней убежденностью, что чужак Хамыца спасет. В чем тут крылась причина, он не знал, и это его угнетало. Конечно, в итоге им всем повезло – и даже коням, брошенным снаружи у стены, – это вот и было самым важным. Тем не менее на сердце у Тотраза было мрачно и тяжело от какого-то вредного чувства вины, не отпускавшего его с той минуты, как он вторично покорился воле чужака и побежал в хадзар за кубышкой для пса.
О том, чтó это все означало, додумать до конца ему не позволяла гордость. Вернувшийся ветер задул с горы, и его передернуло. Кликнув коня, Тотраз сел верхом и, взобравшись по смытой тропе на пригорок, пустил его слабой рысью. Справа на горизонте увидел две точки. Они двигались туда же, куда скакал теперь он. Только, пожалуй, думали совсем о другом…