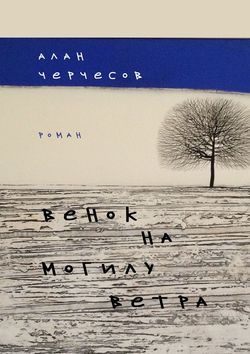Читать книгу Венок на могилу ветра. Роман - Алан Черчесов - Страница 8
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
VI
ОглавлениеТолько через два месяца ему станет ясно, что значили те дедовские слова: они поднимались к вершине еще и затем, чтобы старик попрощался, испил напоследок глубокой небесной печали и приготовился к уходу – к смерти, которую кротко встретил за тихим добрым сном. К утру на непривычно гладком лице его покоилась сизая паутинка, не волнуемая ни теплом, ни дыханием. Похоронили его рядом с давно умершей женой и обоими близнецами, и мальчишка подумал, что нынче все они разом сравнялись в возрасте, и, только теперь не сумев укротить расползающиеся уста, он надолго и горько заплакал, убежав с ненавистного кладбища.
Но спустя полгода, когда его оглушило бедой, слез не было вовсе. Он только ходил, кивал, молчал, ел, смотрел на чужие руки и словно на себя самого, из которого выбрался, вышел, сбежал, чтобы не захлебнуться болью и не переломиться по хребту от сознания того, чтó на него обрушилось. Он будто оброс со всех сторон мягкой, невидимой глазу стеной, мешавшей ему ощутить свою прежнюю – простую и близкую – связь с предметами, запахами и голосами, да еще вот все время его тянуло резко, внезапно обернуться и вновь встретить, поймать то, что изначально составляло неотъемлемую и главную сущность мира, в который он был впущен десять лет назад; мира, где не было ни этой нелепой равнодушной размеренности (стук деревянных колес по улице и скрип уключин, звук катящихся альчиков5, бесноватый лай собак, плач капризничающих детей; родительская комната, гостеприимно принявшая старшего дядю с его молодой женой и спокойно сносящая их приглушенный полночный смех; шепелявое посвистывание нового деда, когда тот, что-то увлеченно обдумывая, скоблил ножом влажную соком тростинку; утренний шорох метлы, стирающий со двора плеск весенних луж; зеленеющая первая трава и возня воробьев над жирным червем – все это было неправильно, постыдно и гадко, потому что почти все это было и раньше, а оно, раньше, сгинуло для него навсегда), ни страшных черно-белых снов с зевающими ртами, ни мычания толстого, слюнявого существа с бестолковыми руками и рыхлым телом, которое дважды в месяц им с младшим дядей приходилось мыть в тесном низком корыте, предназначавшемся прежде для помоев, идущих на корм скоту. Тело колыхалось, пуская дряблую пузыристую волну, и издавало звуки, похожие на фырканье лошади, пока мальчишка тер его скребком и жарко ненавидел за то, что выжило только оно из троих, выжило, несмотря на то, что перестало быть человеком, а превратилось в слезливое прожорливое животное, названия которому никто не знал. Дни напролет оно лежало в нижней комнатушке, рядом с кладовой, и поводило выпученными глазами, непрестанно шаря руками по паху и животу, скуля по-звериному от постоянного, неутолимого голода, который могла унять лишь ночь – не сном (потому что глаза оставались открыты и все так же трудились, вращая зрачками по кругу), а каким-то восторженным изумлением перед тем, что делала с пространством темнота. Тело ворочалось и сопело, только мычания не было. Оно начиналось с рассветом, когда пробуждались руки и принимались сновать по тому, что было раньше шумным, добрым и веселым человеком, так удивительно похожим на отца, и вспоминать про это было вовсе нестерпимо, и оттого мальчишка старался не глядеть ему в лицо, чтобы не будоражить в себе тошноту, подплывшую к горлу…
Голову отыскали шагах в трехстах вниз от дороги. Она недвижно торчала из грязи, вросши туда подбородком, и, если б не руки, лихорадочно шарившие перед собой, можно было подумать, что голова отрублена и брошена здесь отомстившим врагом. Уже тогда он перестал отзываться на речь, будто проглотил со страху все слова. Труднее всего оказалось вытащить ступни из погнутых стремян – каким-то чудом он удержался в седле кобылы. Ее пришлось откапывать вместе с ним. От кобыльей морды осталось кровавое месиво с бурыми ноздрями, из которого вдруг, как вскинутая пружиной, вынырнула голая подкова лошадиной челюсти без зубов, и тогда мальчишку крепко схватили в охапку и утащили в аул. Там его привязали к коновязи, и афсин с невестками вылила на него несколько ушатов воды, прежде чем он перестал кричать и пинаться. Потом афсин велела отворить пошире рот и, когда он ослушался, больно двинула его локтем под дых. Мальчишка охнул и вмиг ощутил, как в рот ему вставили шершавую ступу, поднесли к ней бурдюк и влили ему в нутро вонючую араку.
Когда он проснулся на собственных нарах, в хадзаре было громко от рыданий и как-то по-зимнему душно. Он посмотрел на укрытые в бурки тела, но ни слез, ни крика уже в себе не нашел, а только устало подумал: «Я так просил их взять меня с собой…» Если он что-то и чувствовал в ту минуту, так это беспредельную, огромную обиду да дурноту от выпитой араки. Потом, наутро, он внезапно, с каким-то унылым изумлением, понял, что не чувствует ничего, ни-че-го, а только наблюдает за происходящим, как за окном, в котором, волнуясь, хлопочет множество людей, и при этом никто из них тебя не замечает, даже когда случайно поглядит в твою сторону…
Так он лишился отца и матери, и, пожалуй, среднего дяди тоже, хоть тот и выжил, угодив вместе с ними под сель. А еще через полгода, следующей осенью, он лишился и всех остальных, но – уже по собственной воле, потому что не пожелал отдать на откуп могилы, которые они, новый дед и двое его сыновей, променяли на пятерку угнанных ими коней, лучших в ущелье, двух из которых вполне хватило бы, чтоб обзавестись наделом земли за южным перевалом. Но он, мальчишка, вернулся – на целых тридцать лет, и вчера они закончились, потому что вчера он вернулся к тому, от чего не уйти. «Что бы ни произошло, умру я здесь, – думал он, глядя в сырой настил потолка. – У Проклятой реки. Я слышу это сердцем. Слышу это, как взгляд. Выходит, так тому и быть…»
5
Альчики — надкопытные суставные кости барашка, используемые в прошлом для игры осетинских детей (соответствует русской игре в бабки).