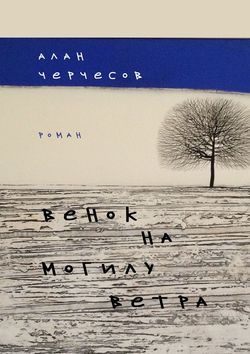Читать книгу Венок на могилу ветра. Роман - Алан Черчесов - Страница 5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
III
ОглавлениеОни стояли у самой вершины, он и старик. Тропа подступала к истоку узким расплывом, едва различимой петляющей вмятиной, и, споткнувшись о мокрые камни, тонула в сверкающих нитях упругого родника.
– Отсюда она начинается, – говорил старик, отступив на шаг и оперевшись руками о палку. – С ледниковой слезы. С простого ручья. Из него еще можно напиться. Попробуй.
А он, застывая сердцем от страха, просил:
– Сперва расскажи.
– Как хочешь, – соглашался старик. – Только ты уже слышал и знаешь. Не надо краснеть. Ты боишься легенды, а это не стыдно…
– Они тоже боялись?
– Пожалуй. Наверно. Но потом – уже нет. Страх ушел раньше, вместе с надеждой. Они строили склепы и ждали конца.
– Ты уверен, что это река?
Старик вздыхал, пожимая плечами:
– Так утверждает легенда. А с нею не спорят.
– Может быть, воздух?
– Нет. Только не воздух. Иначе б и мы тогда… Но мы уцелели. Выходит, их отравила река… Ветер ей не указ.
Ручей сбегал по искореженной вершине вниз, к обрубку скалы, потом терялся в ее изгибе и, вместо эха, растекаясь по зеву обрыва, окроплял потревоженный воздух легким радужным трепетом. Поплутав по ущелью и собрав его тающий сок, он врывался в долину безумным потоком, бурлящей рекой, похожей с горы на зеленую кровь стервенеющего чудовища. Однако рождалась она здесь, под хрупкой коркой нетвердого льда, с невинного прозрачного шепота, к которому еще можно было припасть губами, обманувшись животворной упругостью влаги. Было трудно поверить, что так же когда-то, с чистого плеска воды, зачиналось убийство аула, уничтоженного прихотью сумасшедшей реки, а потом и вовсе сметенного ею – в закатное никуда.
– Но почему? Кто-нибудь знает ответ? – спросил он старика.
– Узнать такое нельзя, – ответил тот. – Это можно услышать. Не веришь? Пригни колени.
Он повиновался, но не услышал ничего, кроме запредельной тишины неба над раненой горой. Не отрываясь, он следил за парящим над гребнем бельмом, маравшим безупречную синеву, в которой даже солнце казалось случайностью, каплей, лишним желтым мазком. Облако задело за гребень, но не порвалось, а только сомкнулось вокруг него сухой, пресной прохладой, потом скользнуло дальше, на восток, на мгновенье неровно оскалившись щелью, и он вздрогнул плечами, пораженный предчувствием.
– Я понял. Ему все равно, – сказал он. – Я правильно слышу?
– Все равно? – повторил старик. Седины в нем было больше, чем белизны в снегу.
– Да, – сказал он и поднялся с колен. – Оно лишь казнит. Я его ненавижу.
– Хочешь сказать – карает, – поправил старик и кивнул. – За ошибки и прегрешения.
– Ему все равно, – он упрямо стоял на своем, уже почти крича, раздосадованный нехваткой слов. – Сперва оно убивает, а все остальное – потом… Но ему все равно, оно никого не щадит!
– Погоди, – сказал дед. – Я знаю, о чем ты. Но тут ты неправ. Оно просто больше. Больше жизни и слов. Больше времени. Такое большое, что и смерти ему нипочем. Вот что ты слышишь…
– Я ненавижу его.
– В тебе говорят беда и обида. Ты слышишь другое. Раствори в нем беду.
Он не ответил, и старик отвернулся, чтоб ему не мешать. Упав на снег, мальчишка впился в кисть зубами, но, почувствовав, что это не помогло, поперхнулся стыдом и разрыдался в голос. Он плакал впервые за две недели, прошедшие с тех пор, как умерли его сестра и брат, родившиеся в один весенний день и в один же день, но уже июньский, похороненные под громадной могильной плитой, так и не успев понять, что были живы. Болезнь их длилась несколько часов, и к исходу суток все уже было кончено. Она оставила на лицах коричневые пятна, покрыв их губы волдырями, но умерли они не от них, а от удушья. Так говорили собравшиеся в дом старухи. Когда младенцев обмывали в деревянном жбане с холодной водой, он подглядел, как с чавкающим треском разгибают их прилипшие к щекам ручонки. Взвыв от ужаса, он бросился вон из хадзара и был найден лишь к вечеру в соседском хлеве, куда вошел хозяин, чтобы задать буйволу корм. Мальчишка сидел у стены, обляпанный соломой и навозом, и в глазах его не было ни слезинки. Буйвол стоял в дальнем углу и словно сторонился его, как дикого опасного зверька. Спустя еще три дня мальчишка поднял на ноги весь дом, отбиваясь средь ночи от собственной тени и сильно обжегшись об очажную цепь, которую хотел сорвать, чтобы замотаться в нее, как в кольчугу. А к концу новой недели, к поминальной пятнице, вернулся его отец, уехавший в крепость вечером в день похорон, чтобы возвратиться обратно тогда, когда боль хоть немного смешается с памятью. Наутро отец повел его с собой на охоту, и мальчик впервые увидел, как тот расстрелял все патроны, не уцелив при этом даже высунувшегося из норы в пяти шагах от них рыжего хорька. Он посмотрел отцу в глаза, затянутые мутной пленкой влаги, но сам сдержался, проглотив свой плач и мучаясь потом отчаянной икотой, которую отец не замечал, занятый своими торопливыми руками и изнуряющим молчанием, похожим на нескончаемый стон.
За все это время дед не произнес и пары слов. Окаменев спиной и устами, он сидел во дворе, смежив лохматые брови и глядя пустыми зрачками вдаль, а вокруг матери, метавшейся в бреду, хлопотали афсин3 и невестки, ставя примочки на ее исцарапанное лицо, покрытое такими же бурыми пятнами, от которых взрослые не умирают и не могут того себе простить. Потом солнце устало, поблекло бесцветной дымкой, спряталось тучами, и зарядил нудный дождь, пахнущий сладкой корой. Ее крутые завитки валялись вместе со стружками у забора, набухали желтой водой и отравляли ночь. Накинув бешмет и схватив стальной заступ, мальчишка выбежал под дождь и закопал их в жирной глине, обливаясь пóтом, но не слезами. Заровняв холмик, он обернулся и лишь тогда встретился взглядом со стариком, наблюдавшим за ним с порога. Дед опять ничего не сказал, а когда ночь прошла, позвал его и приказал собираться…
Теперь мальчишка знал, зачем они пришли сюда, к вершине, и поднялись по давно забытой всеми, призрачной тропе, заросшей травой, размытой годами, но все так же петляющей по живой памяти старика, не позволяя ему оступиться. Отрыдавшись до изнеможения, до резей в желудке, чувствуя слабость и порывистое кружение в голове, мальчишка склонился над ручьем и, уже без страха, напился из него и умыл отекшее лицо. Затем откинулся на руки и, прикрыв глаза, слушал, как гладит его по щекам теплый солнечный луч. В груди его приятным копошением росло спокойное смирение. Злоба и дрожь в висках куда-то исчезли. Тоска не терзала, а тихо печалилась там, где только что жадно вздохнуло сердце. Он поднялся, отряхнул одежду:
– Я готов.
Старик улыбался глазами и, казалось, смотрел на него из какого-то ясного далека.
– Вот и ладно, – кивнул он. – Пожалуй, я тоже готов.
Он не придал значения его словам, размышляя в тот миг о том, что уже не боится легенды. Смерть в ней была слишком гордой, слишком торжественной и опрятной, как эхо от песни, и ничуть не походила на ту, что уничтожила близнецов. «Наверно, это только сейчас, – догадался он и вдруг широко, по-собачьи, зевнул. – Для них-то, поди, иначе все было. И вместо коры со струганных на гробы досок было что-то другое, что им так же хотелось зарыть…»
3
Афсин – старшая в доме (осет.)