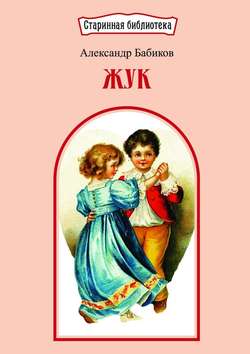Читать книгу Жук. Повесть - Александр Бабиков - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава седьмая
о нашем классе вообще и об одном из наших в частности.
ОглавлениеПока Жук, герой этой правдивой повести, томится в карцере, я позволю себе оборвать нить рассказа и набросаю легкий очерк того муравейника, в котором мне суждено было провести несколько лет.
Наш класс, если не принимать в расчет двух-трех оригинальных личностей, к числу которых принадлежал и Жук, распадался на две неравные группы.
К первой относились прилежные ученики, посвящавшие, как говорится, делу время, забаве – час. Каждый из них имел собственные исправные книги, тетради в чистеньких красивых переплетах, карандаши, перья22 и прочие припасы. Все эти предметы хранились в классных ящиках под замком.
Другая группа была гораздо многочисленнее; принадлежавшие к ней об учении помышляли меньше всего на свете. Время они проводили несравненно веселее и разнообразнее первых; но случались и неприятные минуты.
– Господа, кто взял мою арифметику? – объявлял кто-нибудь из них, держа в руках только истрепанный переплет.
– Господа, у меня кто-то стибрил последний карандаш… писать нечем, – жаловался другой.
– У меня резинка пропала! – пищал, чуть не плача, третий.
Надо заметить, что из всех учебных пособий резинки пользовались особенным предпочтением… Остаться без резинки считалось большим несчастьем; из-за них чуть не каждый день происходили горячие схватки, даже между друзьями…
Крайняя нужда заставляла членов этой группы прибегать к займам, разумеется, без отдачи, или же, пользуясь отсутствием замков в ящиках, самим брать у соседей то, в чем ощущалась потребность. Но, к сожалению, в этих ящиках можно было найти все, кроме того, что нужно: яблоки, утратившие свой первоначальный вид, скорлупу от орехов, корки, веревочки, иногда ремешки, а в теплое время года – целый рой мух, непременно попадавших в рот и нос того, кто выдвигал ящик.
Несмотря на такое распадение класса на две группы, наш муравейник жил одною общею жизнью, имел одни и те же радости, одно и то же горе… Товарищество, в лучшем его смысле, было сильно развито и проявлялось в особенности в трудные дни, как, например, во время экзаменов. Хорошие ученики усердно помогали плохим, и последние переползали из класса в класс.
Большинство учителей не настаивало на том, чтобы все мальчики одинаково внимали преподаваемому учению. У каждого из них было несколько избранных, для которых и читалась так называемая лекция; остальные ученики приятно проводили классные часы среди самых разнообразных занятий, твердо уповая, что эти избранные своевременно поделятся с ними семенами просвещения.
Французский учитель Жерве, веселый, разговорчивый малый, проспрягав со своими фаворитами несколько глаголов, любил поболтать о том, о сем. Наш Филя был его всегдашним собеседником. Разговор между ними начинался обыкновенно с погоды; но мало-помалу воображение Фили и Жерве увлекало их далеко за пределы школы и времен года. Так, они вдвоем, не сходя с места, попадали под проливной дождь зимою; укрывались от грозы в гостеприимной хижине какого-то пастуха; потом вместе с ним стригли овец, доили воображаемых коз… Филя, любивший поесть, неустанно предлагал Жерве козьего молока, сыру и еще чего-то; но тот постоянно отказывался, уверяя спутника, что он – très rassasié23… Наконец, они уходили так далеко, что мы переставали понимать их разговор и предоставляли собеседников собственной участи. На случай же, когда Жерве обращался к нам, у нас были наготове две очень лаконические фразы: «Oui, monsieur»24, и «Non, monsieur»25! Чаще употреблялась последняя, так как она не поощряла Жерве к продолжению расспросов.
Учитель географии, Вержбин, никогда не выезжавший, сколько нам были известно, из родного города, тоже любил уноситься за пределы школы. Живо и увлекательно описывал Вержбин наших антиподов, которые ложились спать, когда мы вставали, и вообще все места на земном шаре, куда и ему, и нам попасть было очень трудно. Кроме Фили, он брал с собою еще нескольких учеников. Бесстрашно углублялся он со своими избранными в тропические страны.. Они задыхались под палящими лучами солнца, спешили вместе с учителем укрыться в тени гигантских пальмовых лесов; там утоляли голод кокосами и бананами, путались в пестрых лианах, купались благополучно в реках, наполненных крокодилами и аллигаторами. Отделавшись счастливо от этих чудовищ, Вержбин и его спутники попадали в берлогу хищных зверей, или к людоедам, и там находили преждевременную смерть… Но бывали случаи, когда Вержбин вдруг забывал не только своих спутников, а все на свете и погружался в глубокую задумчивость. Он садился тогда на стул, далеко протягивал ноги и, устремив свой взор в пространство, переставал видеть то, что происходило вокруг. В таком положении на все наши вопросы, подчас самые нелепые, Вержбин отвечал одним и тем же восклицанием:
– У… у… у! Еще бы!!
Само собою разумеется, что при этом география уходила на задний план, и мы предавались самой необузданной веселости.
Зато батюшка, преподававший Закон Божий, и немецкий учитель Шильман умели заставить весь класс держать ухо востро, благодаря очень строгой методе.
Батюшка требовал, чтобы мы подсказывали хором последнее непроизнесенное им слово обращенной к нам фразы. Обыкновенно, при напряженном общем внимании, последние слова подбирались удачно; если же кто-нибудь нарушал гармонию и обмолвливался горою Араратом вместо горы Синай, то зоркий глаз и тонкий слух преподавателя тотчас же открывали провинившегося. Батюшка призывал его к себе, заставлял рассказывать все прочитанное сначала и затем отправлял в надлежащий угол.
Шильман не требовал от нас окончания своих фраз, но чутьем угадывал, когда чьи-нибудь мысли уклонялись в сторону. – «Folgender!»26 – восклицал он зычным голосом, простирая руку к одному из учеников и непременно попадал на такого, который не мог продолжать прерванного чтения или перевода и лишь отчаянно хлопал глазами. С плохо скрываемою радостью Шильман брал бедняка за плечи и направлял его к кафедре, где тот и опускался на колени.
Таких коленопреклоненных к концу урока набиралось довольно много, и группу эту Шильман называл «коллекцией сталактитов». Он становился среди их и, сложив набожно руки, внимал словам молитвы после учения, которую читал вслух по-русски старший по классу…
В результате было то, что Закон Божий и немецкий язык мы знали очень порядочно.
Из сорока моих одноклассников ярко выделялся своими особенностями один, по фамилии Клейнбаум. Он не подходил ни к одной из названных выше групп, во-первых, потому что превосходил всех нас ростом: сидел ли он или двигался, его продолговатая голова с торчавшими по сторонам большими ушами возвышалась над окружающими; во-вторых, потому что, несмотря на все прилежание, он вечно попадался в незнании урока и, наконец, в-третьих, по той причине, что двухлетнее пребывание в школе не изменило его первобытного домашнего характера. Он обливался слезами часто без всякого повода, а просто от полноты чувств. Эта способность плакать служила приманкой не только для товарищей, но и для всей школы. Утешать Клейнбаума считалось великим удовольствием, и таких утешителей была масса… Дело в том, что от утешений плач его не только не прекращался, но усиливался и понемногу переходил в вой, сопровождавшийся подобием лая. Клейнбаум был немцем только по фамилии; знакомство его с этим языком исчерпывалось единственной красноречивой фразой: «Bitte, bitte, verzeihen Sie mir, Herr Shielmann»27! Ответом на эту фразу было восклицание Шильмана: «Noch ein Punctum»28! или же: «Punctum punctorum»29!
Науки, которые, по выражению поэта, юношей питают, составляли отраву мирного существования Клейнбаума. В то время, как молодежь резвилась в зале или в саду, он выбирал укромное местечко и, делая пять шагов вперед и столько же назад, долбил нараспев одну и ту же строчку по книжке или по тетрадке, не обращая внимания на то, кончалась ли строка целым словом или нет… Нередко, светло-голубые глаза его, наполненные слезами, обращались туда, откуда неслись веселые клики; но это делалось им больше по привычке, потому что на самом деле он дальше своей книги не видел, так как был крайне близорук. Клейнбаума любили за недостатки, как других любят за достоинства. Подчас жаль было бедняка, когда шалуны, пользуясь его простодушием и близорукостью, окончательно сбивали его с толку, но я должен признаться, что это сожаление ничуть не мешало мне хохотать вместе с другими. Такие случаи бывали у нас часто и в особенности во время уроков географии, когда Вержбин погружался в задумчивость… У каждого из нас была своя любимая часть света; но мы изучали и все другие… Клейнбаум ничего не хотел знать, кроме Африки. Все в ней прельщало его: и простота очертаний, и скудость, особенно в то время, каких-нибудь ученых исследований этого интересного материка. Он рисовал Африку на тетрадях и на книгах не только своих, но и чужих, чертил ее чем попало на стенах и заборах и раз даже изобразил ее на спине самого Вержбина, за что и отсидел неделю в карцере. Сказав два-три слова о своем любимом предмете, Клейнбаум неизбежно заканчивал одной и той же фразой:
– Остальное, господин профессор, покрыто мраком неизвестности…
Если бы зависело от него, то он никогда не рассеял бы этот мрак, пришедшийся ему так по вкусу, но однажды нам сказали, что какие-то господа отправились исследовать источники Нила…
– Кто их только просит туда лазить! – вскричал Клейнбаум плаксивым тоном и долго не мог успокоиться.
Раз, на репетиции географии, Вержбин смотрел вдаль пристальнее обыкновенного.
– Клейнбаум, иди отвечать! – крикнул кто-то с передней скамейки.
Клейнбаум, всегда горевший желанием отвечать, быстро перепрыгнул через столы, схватил указательную палку и предстал перед учителем, который в эту минуту, вероятно, меньше всего думал о нем. Карта Африки, как и все другие, была немая, то есть без всяких надписей, и висела на определенном месте, хорошо известном Клейнбауму. О чем бы его ни спросили, он очень ловко съезжал на Африку, и теперь его беспокоило не это, а то, что учитель не подавал ему никакого знака.
– Прикажете начинать, господин профессор? – несколько раз произнес дрожащим голосом Клейнбаум, прыгая между картой и кафедрой и поминутно заслоняя своей фигурой окно, в которое глядел Вержбин.
Надо полагать, что эта искусственная игра тени и света привела учителя к некоторому сознанию действительности.
– Что вам надо? – спросил он.
– Рассказать про Африку? – спросил его, в свою очередь, Клейнбаум.
И, не теряя золотого времени, он подскочил к карте…
– Африка, господин профессор, граничит с севера… Ах, что это?!..
Мы едва удерживали смех. Конец палки Клейнбаума вместо северного берега пришелся как раз на мысе Доброй Надежды так как один из наших шалунов заранее перевернул карту.
– Это… это – не Африка! – в отчаянии восклицал Клейнбаум, поглядывая то на нас, то на карту, то, наконец, на Вержбина.
Мы хохотали, а он прыгал от одной карты к другой, что-то соображал, снова подбегал к своей и запутался окончательно.
Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, если б один из добрых товарищей не сжалился над ним и не перевернул карту как следует. Клейнбаум мгновенно перешел от отчаяния к восторгу.
– Это была она! И это совсем верно! – вскричал он так громко, что даже Вержбин встрепенулся и сказал:
– У… у… у! Еще бы!!
На уроках батюшки никто усерднее Клейнбаума не подбирал последнего слова и никто так не попадался. Он считал долгом оканчивать и такие речи, которые не требовали окончания.
– Итак, мои друзья, – говорил, например, батюшка, – мы должны в эти минуты отрешаться от всего земного…
– Шара! – досказывал Клейнбаум.
По вечерам мы любили собираться в кружок и помечтать о том, что ожидало того или другого из нас в туманном будущем… Филя обещал быть механиком. Он наглядно подтверждал такую претензию, между прочим, своими серебряными часами. Механизм их, благодаря Филе, был уже упрощен настолько, что, во-первых, часы не шли, несмотря на то, что мы по очереди трясли их очень усердно, и во-вторых, можно было сколько душе угодно заводить их ключиком, причем слышалось только беспрерывное трещанье. Процедура эта в минуты досуга доставляла нам несказанное удовольствие.
После механика шло несколько докторов, несколько сельских хозяев, два-три архитектора, один сапожник и масса кавалеристов. Доходила очередь и до Клейнбаума.
– Ты чем будешь? – вопрошали его.
– Путешественником. Это совсем верно! – отвечал Клейнбаум.
Он находился под сильным влиянием рассказов Вержбина об антиподах и, может быть, потому в голове его сложился чрезвычайно оригинальный способ путешествия. Он не отправлялся, как другие путешественники, на север, на юг, на восток или на запад, – нет! Вооружась прочной лопатой и взяв в дорогу фунт пряников, до которых он был охотник, Клейнбаум рыл под своими ногами ямку, и рыл так проворно, что скоро его голова с распростертыми ушами скрывалась под землею…
– Стой, стой! – кричал кто-нибудь. – Куда же ты будешь выбрасывать землю из ямки? Ведь наверх нельзя!..
– Выбрасываю в те пустоты, о которых Вержбин говорил, помнишь?.. – отвечал Клейнбаум.
– Валяй дальше!
Не встречая более возражений, Клейнбаум быстро опускался все глубже и глубже…
– И вдруг, к неописанному удивлению… этих… антилоп… – заключал он.
– Антиподов, – поправляли его.
– Этих антиподов… я появляюсь на поверхности, но уже с противоположной стороны земли… понимаешь?
– Понимаем… ногами вверх!
– Да, вверх, – согласился Клейнбаум, немного подумав.
– Но как же ты будешь ходить, Клейнбаум? Ха, ха, ха!
– Я перевернусь вот так…
И, опершись на скамью, он пытался поднять ноги к потолку.
– Подумай, Клейнбаум, ведь тогда ты будешь стоять опять головою вниз!
Хохот усиливался, между тем как путешественник смотрел на нас растерянными глазами…
22
В старину писали чернильным пером.
23
Очень сыт (фр.)
24
Да, месье.
25
Нет, месье.
26
Следующий! (нем.)
27
Пожалуйста, пожалуйста, простите меня, господин Шильман! (нем.)
28
Еще один Punctum! (нем.)
29
Точка точек! (лат.)