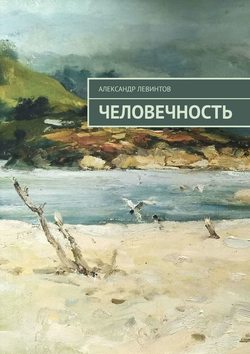Читать книгу Человечность - Александр Левинтов - Страница 10
Генезис
Архаика и мифология
Пространство и место
реальность и действительность географии
ОглавлениеГеография, претендуя на пространственный анализ, а, следовательно, на анализ реального (о чем – ниже), этим мало занимается: ведь анализ всегда вторичен по отношению к синтезу. М. Хайдеггер утверждает, что впервые «анализ» был использован Гомером в «Одиссее»: по ночам Пенелопа расплетала («анализировала») рубашку Одиссея, которую ткала («синтезировала») в дневное время. В географии нет общепризнанной теории пространства, синтезирующей географические представления о нём. Данная статья не претендует на создание этой теории, но лишь ставит вопрос о её необходимости.
Пространство
Пространство невозможно рассматривать вне времени, с которым оно составляет пространственно-временной континуум, с чем согласны и физики, и математики, и географы, и историки.
Время удивительно разнообразно.
Прежде всего, следует различать циклическое («мужское») и векторальное («женское») время. Цикличность времени выражается в календаре и циферблате, циклическое время подчиняется идее «ничто не ново под луною» (Зенон Элейский) и потому и называется «мужским» или «хозяйственным», что подчеркивает повторяемость и неизменность хозяйственного круга дел, забот, начинаний, свершений и результатов. Векторальное время все время куда-то безвозвратно уходит и просачивается в никуда, как наша жизнь – и нет ничего повторяющегося, все уникально и только раз, и все неисправимо, о чём учил ещё Гераклид Тёмный.
Кроме того, время ещё и дискретно, представлено мгновениями, точками, хронотопами «здесь и сейчас», ситуациями.
Время также может быть перфектным и имперфектным, говоря грамматически, состоявшимся и несостоявшимся, текущим и идущим. Мы, так стремящиеся к совершенству, по природе своей несовершенны и потому все время меняющиеся, мы – становящиеся, но все никак не устанавливающиеся (по Бахтину). Мы по-человечески живем в имперфектном времени и отмечаем перфектно лишь следы прошедшей истории или тени на будущем своего существования, что происходит лишь временами, искрами, точечно.
Время и субъективно, и объективно. Объективное время – исторично, оно течет – то от Сотворения мира, то от архея, то от Рождества Христова, то вообще от Октябрьской революции. Наше индивидуальное время субъективно и обычно никак не совпадает с историческим временем: мы голодны или хотим спать, любить независимо от вяло текущего и постороннего для нас исторического времени. Мы стареем и умираем не в силу хода истории, а по собственной небрежности.
Эти три парные характеристики времени сильно усложняют онтологию времени, но это еще не все.
Из точки под названием «настоящее» разворачивается два веера (или два крыла?).
Один из них – веер прошлых времен: вчерашнее, прошедшее и былое прошлые. Вчерашнее прошлое, стоящее за нами, уже состоялось и протекло. Прошедшее прошлое также стоит за нами – это то, что прошло и произошло во вчерашнем прошлом, ведь часто так бывает, что вчера ничего не произошло и не прошло, и мы говорим в таком случае «вчерашний день прошел впустую». Былое прошлое расстилается перед нами, и мы следуем за ним и теми, кто был до нас: наши непосредственные и отдаленные от нас порой на столетия и тысячелетия родители и учителя. Мы – в конце этой цепочки и вереницы. Мы ступаем за ними, а за нами – наши дети и наше будущее.
Другой веер – веер будущих: завтрашнее, грядущее и проектное будущие. Завтрашнее симметрично вчерашнему. Помимо завтра начинает брезжить грядущее, онтологически отличное от настоящего, но никак нами не формируемое. Грядущее – это то, что наступит без всякого нашего участия, нагрянет на нас и обрушится: Страшным Судом, например. И, наконец, мы строим планы, проекты, прожекты и прочие конструкции будущего, как и грядущее, онтологически отличного от настоящего, но включающего в себя наши цели, нашу волю, нас самих. Если завтрашнее и грядущее имеет несовершенный вид в силу нашего неучастия в них, в силу независимости от нас, то проектное будущее – безусловно перфектная форма теней наших воль, целей и желаний.
Что же касается настоящего, то оно неуловимо, все время смещается и потому, находясь в постоянном движении, собственно говоря, неподвижно и неизменно в этом. Либо его вовсе нет и это тот самый неуловимый Ноль, которого нет и который никому не нужен.
Но время – всего лишь одна из координат системы «пространство-время». Что мы знаем об остальном?
Классическое пространство однородно, изотропно, непрерывно, безгранично и бесконечно [15,17,18]. Оно очень похоже на ничто и буддистскую Пустоту. Оно идеально для заполнения чем угодно – от ерунды до Бога. В нашем сознании оно, пространство, существует в своей классической версии и это нас сильно утешает в нашей жизни и наших горестях.
Современное, релятивистское, представление о пространстве много сложнее: оно находится в одной координатной системе со временем, оно неоднородно и в зависимости от размещения в нем масс гравитации, его безграничность и бесконечность относительны и зависимы от приближения либо удаления от скорости света [1,3,4,5,10,11,13,14,19,].
Хоть немного, но мы убыстряемся – мы не только преодолели скорость прямоходящего (5 км\час), но и достигли второй космической скорости, а в своих ускорителях научились разгонять разные малосуществующие частицы до околосветовых скоростей.
Мы не только открыли релятивистские свойства пространства-времени, мы своей физической жизнью приближаемся к ней. Точно также мы поступили и со Вселенной – мы не только отказались от классической космогонии в пользу сильного антропного принципа, но и живем теперь по законам этого принципа. В этом отношении наша цивилизация абсолютно аутична: мы живем в мире, в котором хотим жить.
Впрочем, еще Аристотель [2], обсуждая «хорион» (пространство), утверждал, что за пределами семи сфер, составляющих его, времени нет. Первый физик пророчески предугадал релятивисткую физику современности, хотя его геометрические представления о пространстве были весьма примитивны. Для эллинов пространство сплющивалось до двуразмерности, до плоскости. Справедливости ради, необходимо также добавить, что Аристотель выделял еще одну координату пространства, принципиально недоступную мышлению и деятельности, направленную внутрь себя (то, что много позже Кант назовет «вещью в себе»). По этой координате пространство и все вмещаемое им обладает самообернутостью и полной скрытностью от нас. Пространство, мир и мы в нем по этой координате непознаваемы, неразличимы и загадочны навсегда.
География – равновесная истории наука, насколько пространство равномощно времени. Однако «глупость» пространства, о которой так прозорливо и много говорилось до сих пор, неисчерпаема, а время, кажется, опять кончается и иссякает, на сей раз, и впрямь, окончательно. Это, кстати, очень важно: нас все время сопровождает ощущение того, что время вот-вот кончится, а пространство неизбывно и неисчерпаемо. При этом, конечность времени, воспринимаемая нами безусловно негативно, совпадает с бесконечностью пространства, также кажущейся нам негативной. Нас ограниченность пространства утешает в той же мере, в какой и бесконечность времени.
В географии пространство, к сожалению, никогда не обсуждается как пространство [7,9,12,20,21], а только по его заполнению, что, впрочем, характерно и для истории, которая практически безразлична ко времени и видит его лишь событийно, а не хронологически. Мы, историки и географы, отдали теоретические вопросы пространства-времени физикам, которые в том просто не разбираются и глухи к реальности, как они глухи и к собственному объекту – природе. Благодаря Галилею они гордо и важно занимаются придуманными ими идеальными объектами, не имеющими никакого отношения к реальности и природе. И именно эти игры с несуществующим называются отныне наукой.
Для географов, увы, пространство обладает такими свойствами и характеристиками, как концентрация и дисперсность, разнообразие и законосообразная изменчивость [16].
Эта географическая путаница пространства с его заполнением подобна тому, как историки путают время с фактами и событиями. В этом отношении географы гораздо менее «виноваты», чем историки: ведь представления о времени значительно богаче и сложней представлений о пространстве.
Историки, например, напрочь отказываются от исследований перфектного будущего, похороненного в прошлом, лишая нас понимания и ощущения собственного существования как результата и последствия прошлых проектов. Но, точно также, и географы избегают обсуждать собственно пространство, особенно аристотельянско-кантианское минус-пространство.
География, с одной стороны, признает динамичность пространства и потому рассматривает его в имперфектном залоге, с другой, постоянно стремится к познанию закономерностей, к нормированию пространства, а, следовательно, к его перфектным формам существования [6,8,9,16,23].
Мы существуем одновременно в двух пространствах: видимом социо-культурном и пронизывающем его невидимом универсумально-духовном, согласно Кьеркегору и мистам всех времен. Это – не только основание существования сакральной географии, это – признание духовности нашего мира и нашего существования как его доминанты.
В географии имеется три основных интерпретации пространства: территория (и акватория), ландшафт и среда.
Территория (и акватория) – пространство действий, деятельностей, географическая действительность, плацдарм вмещения и размещения человеческой активности. Территория является объектом проведения искусственно-технических границ смен действий и действительностей, районирования.
Среда – реальное пространство. Географическая среда принципиально неразрывна и не рассекаема. Обсуждать среду без субъекта этой среды невозможно. Мы как субъекты среды – всего лишь центрация нашего сознания: «Человек – это природа, которая познает сама себя» (Гете).
Ландшафт (естественный, естественно-искусственный, искусственно-естественный, искусственный) – идеализированное, модельное пространство, сообразное теоретическим представлениям. Границы ландшафтов носят объективированный и законосообразный характер: они не устанавливаются, а изучаются, в ландшафтоведении районирование замещается районологией. Особая, поэтическая форма ландшафта – пейзаж.
Территориальный (инженерный) подход к пространству и его членению телеологичен, как целенаправлена любая человеческая деятельность. Территориальные границы всегда подчиняются требованию «разделяй и властвуй» (разделяй разные деятельности и властвуй в пределах своей компетенции). Инженерная география (районная и городская планировка, территориальное планирование, экономическое районирование, региональная география и т.п.), в общем-то, индифферентна к разного рода закономерностям и сообразностям – и чем честней это признается и декларируется, тем эффективней географические разработки.
Ландшафтный подход аксиологичен. В той мере, в какой аксиологичны идеализации и теоретические построения. Это значит, между прочим, что в выборе между реальностью и моделью этой реальности, идеалом реальности предпочтение отдается модели и идеалу, а не грязи, шероховатостям, неровностям и несовершенствам реальности: «если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов» (Галилей).
Наконец, средовой подход ситуативен, топичен, хотя топичностьпространства – тавтология. Топическая неопределенность – наиболее адекватная реакция на пространство. «Здесь» и «тут» обладают той же степенью неопределенности, безразмерности и бесконечности, что и «везде», «там» и «где-то». Единственная форма определенности – «вот!» в равной степени относится и к пространству и ко времени. В среде нечто определенное и ограничивающее можно сказать только о субъекте среды, но не о ней самой.
И здесь, на пересечении пространства и времени создается еще одно, фундаментальное и для географии, понятие – ситуация.
Если по одной оси отложить пространство от «тут» до «там», а по другой – время от «сейчас» до «никогда», то задаваемая этими двумя векторами плоскость и будет плоскостью существования ситуации, постольку поскольку в каждой точке этой плоскости существует «здесь и теперь» во всей полноте топики: от совершенно конкретного «вот!», до совершенно неопределенного, по-гуссерлиански эпохального замолкания, архэ.
Здесь даже можно сказать, что ситуация – и есть топика, заполненная логикой и онтологией нашего мышления. Ситуация – это мыслительно обустроенная топика. Кажется, именно так и понимал Dasein Мартин Хайдеггер [22].
В системе «пространство-время» помимо или наряду со временем можно вводить любой другой вектор, лишь бы у него были ноль, включая понятийный ноль, и бесконечность, включая понятийную бесконечность. Например, человека можно принять за ноль, а Бога – за бесконечность. И тогда по вектору «Бог-человек» можно проставить и даже проградуировать такие понятия и фигуры, как герой, мученик, блаженный, праведник, святой, апостол, ангел, сила, серафим. А можно по вектору смертности разместить в нулевой точке Бога, и тогда на конце вектора, по-видимому, будет находиться задушенный в презервативе сперматозоид. Мы можем даже вводить вектора понимания, познания, постижения, осознания и другие когнитивные вектора, включающие в космос пространства нашу субъектность и наши возможности или способности.
Меняя этот четвертый вектор, можно создавать и плодить всевозможные миры, число которых неисчерпаемо, а можно попытаться построить многомерное универсумальное пространство, имеющее всевозможные направления существования.
И это последнее помогает понять место не как точку геометрического, трехмерного пространства, а как некий знак, метку присутствия. Мы часто бываем вместе, но при этом в разных местах: учитель и его лучшие ученики – в классе на уроке, а отпетый двоешник и поэт – в том же классе вместе с ними, но не на уроке, а в эмпиреях своего воображения. Другой пример: в одну и ту же точку, которая когда-то была местом нашего счастья, мы приходим после разлуки и рыдаем на покинутом некогда пепелище своего счастья, и тогда – это совсем другое место, и мы сами стали другие, уже совсем старые и непохожие на собственную молодость.
Географию можно рассматривать как частный случай хорологии, подобно тому, как Эвклидова геометрия – часть геометрии Римана-Лобачевского [15]. Кроме того, некоторые, наиболее рьяные сторонники математизации географии хотели бы видеть в ней и топологические черты и основания [20]. Действительно, для инженерной географии это крайне важно, особенно в сфере построения транспортных сетей и коммуникаций, инфраструктурного замощения территорий, в тех областях географии, где географии менее всего: там, где мы имеем дело с множественными, массовидными явлениями и процессами, не имеющими заметных территориальных различий или эти различия нами пренебрегаемы: доллар, он и в Африке доллар, такими же полезными свойствами обладает туз и бигмак.
Пространство и география, что время и история, – связаны, но не синонимичны.
Историк по мере увеличения периода времени, захватываемого им, и географ по мере уменьшения масштаба изучаемого им приобретают космические черты, уходят в космологию, космогонию и мировоззренческие потемки. При сокращении временного расстояния между историком и изучаемыми им событиями, при увеличении масштаба географических исследований оба, историк и географ, вырождаются в социологов, политологов, психологов, репортеров, хроникеров, публицистов (=наукообразных фельетонистов) и т. п.
Любопытно, что в немецком и французском языках пространство – мужского рода (derRaum и l’espace), в русском и испанском – среднего, в английском (как и почти все у них) – никакого, а в греческом – женского. Рея (пространство) – сестра и супруга Хроноса (время), мать истины (Гестии) и всех прочих богов-хронидов.
Географическое пространство обладает как общими свойствами пространства, так и специфическими.
Холизм – непрерывность пространства во времени. Историк может себе в удовольствие нарубать время на периоды и эпохи – географу свята непрерывность времени, динамика, ход развития, для него нет безвременья, как это часто происходит в истории: возьмите любую хронологию и вы обнаружите, что событиями покрыта лишь ничтожная часть времени, все остальное игнорируется. Географ позволяет себе нечто подобное только с пространством и относится ко времени с глубоким почтением.
Континуальность – непрерывность пространства в пространстве. Географ редко задумывается о дырах в пространстве, а рассуждения о межрегиональных пустотах для него почти невыносимы. Для географа от места к месту всегда расположено третье место или другие места. И, хотя географ мыслит мир пятнами, ареалами, у него хватает профессиональной выдержки стягивать эти пятна. Районы – это типичные сомкнутые ареалы. Дискретность мира географ, будучи морфологом по своей сути, преобразует в такие показатели как плотность – но не пространства, а его наполнения (плотность населения, дорог, травяного или лесного покрова, планктона). Чаще всего плотность, ее существенные или придуманные пороговые показатели, становится основанием членения территории на районы, зоны т. п.
Географ существует как в континуальном, так и в дискретном пространстве. Именно дискретность мира позволяет проводить границы – фундаментальное занятие любого географа независимо от его специализации. Дискретность оправдывает соседство, положение и другие объективные характеристики существования тех или иных объектов в пространстве. Дискретностью задается и самое, на наш взгляд, фундаментальное понятие в географии – место, о котором речь пойдет в дальнейшем – и не один раз.
Географы-приверженцы дискретности мира с трудом, но признают, что дискретность мира – не более, чем особенность их восприятия, а вовсе не особенность мира. Дискретность необходима для анализа и теоретизирования. Мир континуален, а, следовательно, конфигуративен, а, следовательно, произволен, творим, сочиняем, видим каждому по-своему. Такой мир как-то милей и приятней, а, пожалуй, что и честней.
Если историк членит время на периоды, то географ пользуется в пространстве масштабом. При этом, ему невыносим масштаб 1:1 – своей необозримостью. Именно поэтому географ пользуется картами и глобусом, предпочитает видеть мир сверху, с птичьего или спутникового полета.
Проблема понимания реальности и действительности
Реальность в корне своем несет греческий «реа», имеющий два значения: «пространство» (богиня Пространства Рея, жена бога Времени Хроноса, пожиравшего собственных детей, кропотливо вынашиваемых Реей) и «вещь». Этот смысл, вторичный по отношению к пространству, является в данном контексте ключевым.
«Вешь» отличается от предмета тем, что, помимо своей материальности, о которой говорит Платон (мир людей находится между миром вещей и миром идей), еще и «вещает», несет весть – отражение и слабую, полупрозрачную, полупризрачную тень идеи, некоторую истину о себе. Понять заключенную в вещи, а, точнее, за вещью, идею, суть этой вещи, можно, либо пристально изучая ее (взглядом, рассудком, разумом, инструментально) и историю возникновения вещи, либо… а вот тут-то никакое «либо» не проходит: включая ту или иную вещь в свой хозяйственный и деятельностный оборот, мы только усугубляем непонимание ее сути. Достаточно вспомнить Сталкера из «Пикника на обочине» братьев Стругацких: вынесенные из Зоны предметы вещами не являются, мы не понимаем их вести, а потому используем их самым варварским образом, явно не по назначению. И вещи начинают мстить и бесчинствовать, по Анаксагору, давая результаты и последствия непредсказуемые, порой противоположные ожидаемым.
Реальность – это овеществление мира, придание окружающим нас предметам голоса, подающего вести о себе. Понимание в реальности есть понимание вести, несомой внешним миром и его предметами.
И вместе с тем: нам не дано пространство (Реа), оно загромождено вещами (реа) и потому не только не видимо и не осязаемо, но и немыслимо нами. Отгороженные от пространства, от реальности вещами, мы понимаем только вещи.
Впрочем, овнешнять можно все, в том числе и себя: рефлексивно мы можем самоустраниться из себя и начать понимать себя как нечто внешне данное и вещающее о себе.
Понимание реализуется в вещах.
Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).
Совместимы ли два этих понимания? – разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.
Еще итальянец Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая.
Интендирование (термин Ансельма), склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания.
Понятие места
Место, подобно событию в истории, является (или может являться) идеальным объектом. Во всяком случае, такова наша попытка, необходимая, потому что никто и никогда не оспаривал научности истории и географии, но никто и никогда не обсуждал их идеальные объекты, без которых они не могут признаваться за науку.
Место (топ, локус, ситуация) должно быть редукцией некоторого пятна на местности, в пространстве, и поэтому важно понять, что и от чего редуцируется и абстрагируется (возводится в меру и с артиклем неопределенности):
Координатная определенность замещается пространственной неопределенностью типа «где-то», «тут», «там», «вот» или «здесь».
Из циклически-поступательного вихря времени изымается векторальный поток времени (история) и остается лишь циклическая ипостась времени (например, сезонность, круг дел и повторяющихся, ритмических событий); эта цикличность и определяет границы места.
Исчезает вся мозаичная и пестрая морфология присутствия людей и остается только само присутствие, подобное тому, которое наблюдается в любом натюрморте.
От соседей и соседних мест остается идея соседства.
От связей остается абстракция связности.
От отношений – относительность и сравнимость, сопоставимость, например, уникальность, аналогичность или гомологичность места.
От людей – населенность (людность, безлюдность).
От любой деятельности – активность (бойкость, тихость, мертвость).
От наполнения и наполненности – освоенность (или неосвоенность).
От размеров – масштабность.
От всех значений – духовность или бездуховность места.
Таким образом, представление о месте достигает некоторой идеальности.
Во всяком случае, найти нечто похожее в реальности вряд ли удастся. Место как идеальный объект онтологично, но только онтологично. Некоторую логическую завершенность «место» приобретает только в географической действительности, точнее, в рефлексии по поводу этой действительности.
Как нам представляется, ближе всех к построению идеального объекта места в географии подошел А. Вебер в своей теории размещения (теория штандортов). Если бы он смог «отвязаться» от сферы производства и рассматривал бы размещение как таковое, он, скорее всего, вышел бы к необходимости поиска и создания места как идеального объекта.
Географическая действительность относительно идеального объекта «место» разворачивается по таким интеллектуальным процессам, как:
описание
изучение и исследование
проектирование
экспериментирование
конструирование
развитие
захоронение (мемориализация)
В оболочках этих географических действий и деятельностей идеальный объект «место», теперь уже «географическое место», онтологически и логически закрепленное в практике, возвращается в реальность, в реальную жизнь и реальную географическую среду, чтобы стать поводом для нового шага географического познания. Круг, необходимый для любого идеального объекта (из реальности через действительность и опять к реальности), замыкается и ничего, вроде бы, не происходит и не искажается, кроме стоящего перед реальностью географа, проделавшего этот круг и тем готового к принятию географического решения относительно данного места.
Если «место» оказывается в сердцевине научного предмета географии, то можно наметить важнейшие направления теоретической географии или, образно говоря, спектра, веера необходимых теорий:
теория размещения (хозяйства, производства, населения и т.п.)
теория перемещения (транспортная теория и теория связи)
теория возмещения (пока еще не существующая воспроизводственная теория географии, теория рекультивации и антропоцикла природы)
теория замещения (теория реконструкции, переспециализации, перефункционализации и диверсификации деятельностей).
Размещение и расположение
География занимается либо размещением разного рода объектов в пространстве действительности либо расположением – в пространстве реальности, при этом, мы размещаем так и там, а оно располагается иначе и не там.
Мы играем в одну игру, в игру на размещение, а вещный и творимый нами мир играет совсем в другую – в расположение.
Глаголы места
Относительно места в русском языке имеется два принципиально разных глагола:
– класть (глагол, означающий процесс полагания чего-либо на место или в место, прикрепления к месту)
– лежать (глагол, описывающий нахождение на месте или в месте, это уже не процесс, а состояние, явление).
Принципиально важно то, что глагол «класть» имеет только несовершенную форму, а глагол «лежать» – только совершенную.
И что бы мы ни размещали («клали»), все будет несовершенно, положенное же, локализованное – совершенно. При этом, совершенно неважно, «лежащее», имеющее местоположение, «положено» было нами или природой – оно совершенно по положению, а не по происхождению, оно оестествляется и тем совершенствуется. То, что предкам казалось верхом безвкусицы, например, классицизм николаевской эпохи, заводы и городки Демидова или Эйфелева башня, то потомкам кажется верхом совершенства. Наскальные рисунки, набросанные на скорую руку из сугубо утилитарных соображений, сегодня потрясают наше воображение смелостью и совершенством форм.
Мы размещаем по одним факторам, а оно располагается по другим. Жилой дом строился для счастья людей, и они действительно были счастливы, когда въезжали и справляли новоселье, но почему потом все в тех же стенах и обоях стали разворачиваться драмы, склоки и несчастья?
И, если это так, то важно понять, как оно располагается, что происходит с размещенным при расположении.
Это важно знать по двум причинам:
– нам исследовательски важно понять и расположение и его отличия от размещения
– нам проектно важно знать две сущности: действительность размещения и реальность расположения, их различия и что лежит в зазоре между ними.
Принципы размещения и факторы расположения: что в зазоре?
Расположение обычно разумно, размещение – рационально.
За свою рациональность мы платим дважды: один раз вложениями, второй раз – последствиями, которые всегда и по принципу негативны, неожиданны и неизбежны.
В зазоре между экономически рациональным размещением и разумно обеспеченным расположением – целый мир минус экономическая рациональность.
И потому – понять законы расположения значит понять законы существования. Либо – сказать себе, что таких законов не существует. и вся недолга.
Попробуем все-таки выделить некоторые законы пространственного расположения или, правильнее, законы уместности.
Закон монотонности
Всякое расположение стремится к тому, чтобы быть тем, что оно есть.
Мир сопротивляется изменениям каждым своим местом и в то же время уязвим для изменений в каждом своем месте. Ничто не мешает нам бросить в пруд камень, но очень быстро концентрические волны от брошенного камня затихают, и место приобретает прежний спокойный и невозмутимый вид.
Закон универсальности
Всякое расположение стремится повторить собой весь космос.
В каждом месте присутствует все, что может вместить это место и потому все новое, что появляется в данном месте, вытесняет что-либо из уже имеющегося либо деформирует имеющееся своим соседством. Американские города не изгоняют из себя зверье и птиц, живших здесь до возникновения города, но в городе эта живность становится помоешным сообществом, попрошайками, врагами или жертвами очеловеченной природы (домашние животные и растения) и техники (автомобили, дороги и т.п.).
Закон естественности
Всякое расположение, даже совершенно искусственное, – комплекс.
Комплекс – естественное или оестествленное сочетание, и процесс оестествления заключается в установлении новых связей и сцеплений, придающих морфологии материала законченность и совершенство места. Нам дано это понять и почувствовать через красоту и гармонию каждого места, пусть даже ужасную гармонию.
Закон перфектности
Всякое расположение уже совершенό и тем совершéнно.
Любой акт размещения рано или поздно «умирает» в расположении и приобретает искомый покой места.
Соображения при принятии решений
Технология и инфраструктурные сети – вот, что снимаетвсю проблематику и размещения, и расположения: «Макдональдс» можно открывать где угодно, лишь бы это место было обитаемым, бензоколонку можно ставить в любом месте, лишь бы был хайвэй, демократию можно устанавливать в любом месте, где есть хотя бы один избиратель.
Технология и инфраструктурные сети делают проблемы размещения (по крайней мере) избыточными при принятии решений: а не все ли равно, где?
Что же касается расположения (по поводу которого принятие решений просто невозможно, поскольку это вопрос нерешаемый), то тут будет оставаться место только для исследовательской позиции:
– уместно ли новое размещение имеющемуся расположению?
Библиография
1.Александров П. С. Теория размерности и смежные вопросы. М., Наука. 1978.
2.Аристотель О небе.//Сочинения, т.3//М., Мысль,1981
3.Вяльцев А. Н. Дискретное пространство-время. //М., Наука, 1965.
4.Горелик Г. Е. Почему пространство трёхмерно?//М.,Наука,1982, 168 с.
5.Гуревич Л. Э., Глинер Э. Б. Пространство и время. //М., Знание. 1974.
6.Замятин Д. Мета-география: пространство образов и образы пространства. //М., Аграф, 2004, 512 с. ISBN 5-7784-0237-6
7.Изард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. //М., Прогресс, 1966,659 с.
8.Королёв С. Поглощение пространства.//в ж. «Дружба народов»1997, №12,
9.Костинский Г. Д. Географическая матрица пространственности. //Известия РАН. Сер. географическая. 1997, №5, с. 16—32.
10.Мостапенко А. М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени. //Л.,Наука,1969.
11.Мостепаненко А. М., Мостепаненко М. В. Четырёхмерность пространства и времени. //М.-Л.,Наука, 1966.
12.Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней.//М.,Мысль,1985, 237 с.
13.Пространство, время, движение. //М., Наука, 1971.
14.Пуанкаре А. Последние мысли.//Петроград, 1923.
15.Риман Б. О гипотезах, лежащих в основании геометрии.//В кн.: «Об основаниях геометрии», М., Гостехиздат, 1956.
16.Родоман Б. Б. География, районирование, картоиды. //Смоленск, Ойкумена, 2007, 368 с. ISBN 5-93250-056-2
17.Розенфельд Б. А. История внеэвклидовойгеометрии.//М., Наука, 1976.
18.Страбон География. //М., Ладомир. 1994.
19.Фридман А. А. Мир как пространство и время.// М., Наука, 1965.
20.Хаггет П. География: синтез современных знаний. //М., Прогресс, 1979, 686 с.
21.Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии.//М, Прогресс, 1968, 391 с.
22.Хайдеггер М. Бытие и время. //М.,Ad marginem,1997.
23.Шупер В. П. Мир виртуальных объектов в географии. //в сб. «Географическое пространство: соотношение знания и незнания. Первые сократические чтения». М., РОУ, 1993, с. 18—22.
Май 2016, Москва